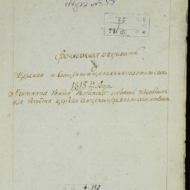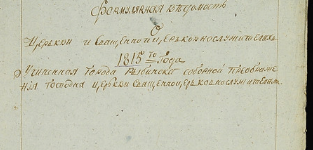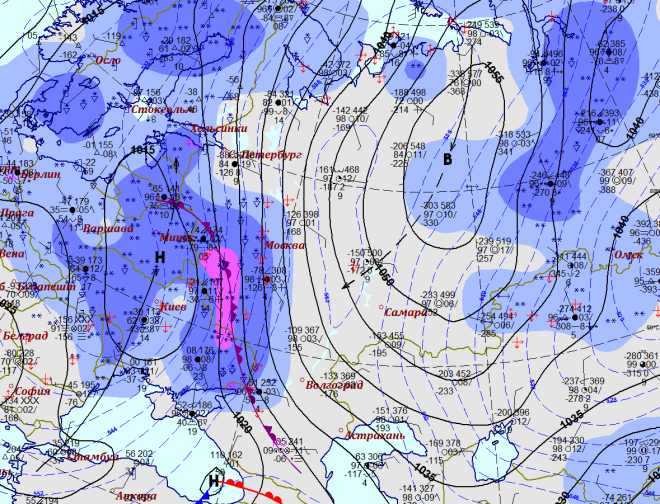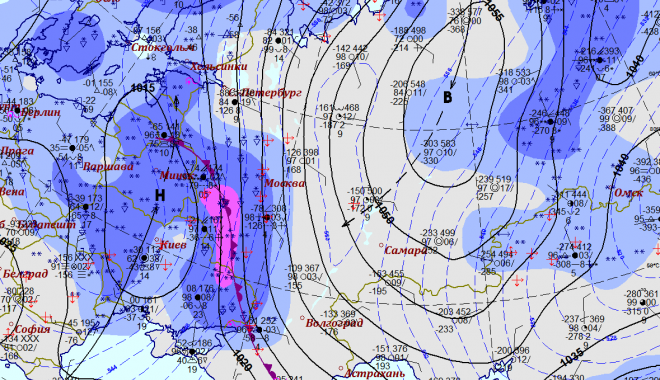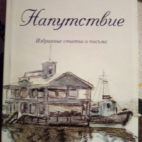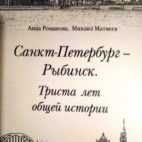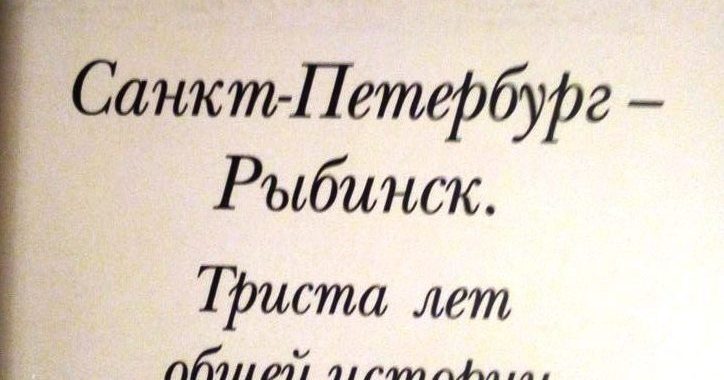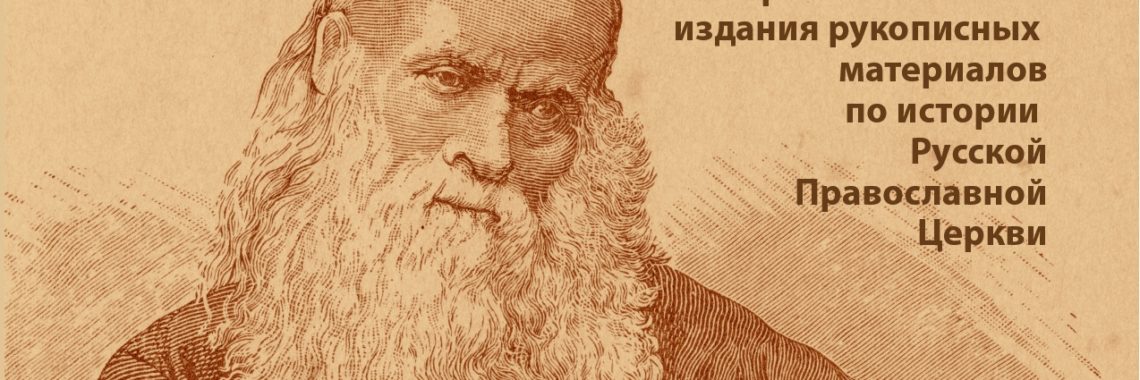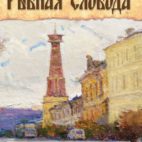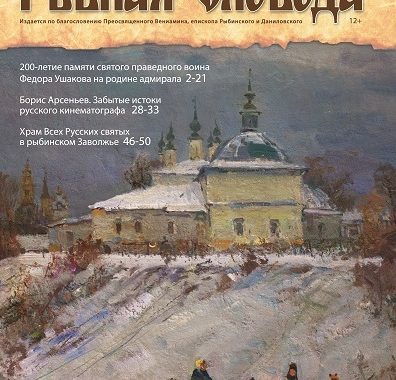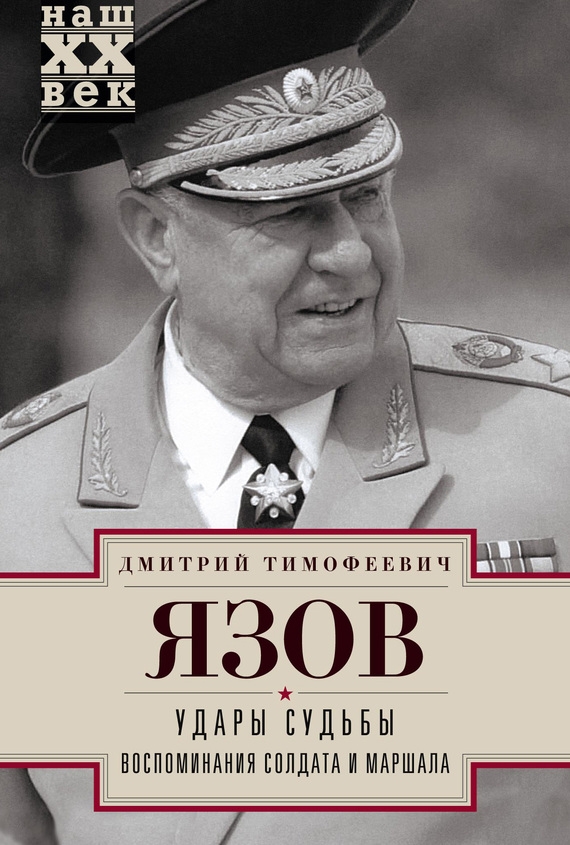Известие о смерти 95-летнего маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, пришедшее почти сразу после Дня защитников Отечества и 275-летия адмирала Ушакова, как будто вписалось в логику событий… Ведь Язов был из поколения героев — с его богатырской статью и силой духа. 22 года назад, 24 февраля 1998 года, я пришла к Язову с огромным букетом белых роз. И так сложились обстоятельства, что мне пришлось быть одним из первых читателей рукописи его книги о событиях августа 1991 года.
Еженедельник, в котором я тогда работала, да и вся московская пресса, с большим интересом в то время раскапывали подробности периода ГКЧП. Мне поручили, во что бы то ни стало, встретиться с Язовым. Это оказалось не слишком сложно. Не скажу, что меня с нетерпением ждали, но в то же время встретили не без симпатии. Супруга последнего советского министра обороны Эмма Евгеньевна, в ответ на мои обещания не отнимать много времени и не слишком мучить маршала вопросами, ответила: «Его не очень-то замучаешь. Дмитрий Тимофеевич такой же командир, как и раньше». (Имя супруга она произносила удивительно мягко, по-старославянски — Димитрий).
И вот я уже иду к улице Александра Фадеева, где, кажется, проживают почти исключительно семьи российских офицеров. Красные кирпичные дома постройки начала восьмидесятых годов, довольно приветливые на вид, отличаются какой-то едва уловимой внутренней строгостью. Здесь пустынно, хотя до станции метро Новослободская — не больше десяти минут пешком. «Так же пустынно, как в окрестностях Министерства обороны», — отмечаю я про себя, и даже редкие бабушки, гуляющие с детьми на бульваре, почему-то не убеждают меня в том, что здесь кипит такая же, как везде, московская жизнь. Не слишком ухоженный двор нужного мне дома так же, как везде, заставлен машинами. Дверь в подъезд явно не жалели — она вдоль и поперек расписана граффити, вместо стекол кое-где фанера (ведь это 1998 год!). Однако есть код, и на площадке первого этажа я обнаруживаю вахтера в стеклянной кабинке. В его строгих глазах вопрос: «К кому?» — «К Дмитрию Тимофеевичу». Лифт поднимает меня на седьмой этаж, а когда распахиваются его двери, я сразу узнаю этого большого, крепкого, рослого человека, которого до сих пор на экране телевизора видела лишь в форме маршала. Однако сейчас он одет по-домашнему, и в его лице и голосе нет намека на генеральский тон. Он нетороплив и сдержан, приглашает меня войти. Вокруг него вертится весьма добродушный, такой же немолодой кокер-спаниель… Мы входим в просторную, но в то же время весьма скромную квартиру. Здесь, во всяком случае, на первый взгляд, нет ни дорогой мебели, ни каких-то особенных раритетов… Ни букетов цветов. Мой букет огромных белых роз в бутонах размером с ладонь был единственным. Наша встреча состоялась 24 февраля. Разве можно было на другой день после дня Советской армии прийти к министру обороны, пусть и бывшему, без такого знака внимания? Это были очень дорогие цветы (благо, редакция всегда брала на себя подобные расходы). Ведь я полагала, что придется «конкурировать» с какими-то министерскими, а может и кремлевскими букетами…
В гостиной большую часть комнаты занимал большой стол в середине, а за стеклом небольшого шкафа стояли хрустальные вазы… Словом, здесь не было ничего необычного, не свойственного большинству квартир бывших советских граждан. Исключение составляло лишь множество восточных вещиц — необычных китайских картонных фонариков, изделий из соломки… Заметив мой интерес, Дмитрий Тимофеевич пояснил: «Это Эмма Евгеньевна у нас увлекается… На Дальнем Востоке все это было доступно».
Разумеется, я сразу же приступила к делу, к вопросам о ГКЧП. Дмитрий Тимофеевич вначале отвечал неохотно, однако определенно и кратко. И в первые же минуты разговора достал рукопись…
«- Это правда, что вы обладаете уникальной памятью?
— Так говорили те, кто удивлялся, что я знаю наизусть роман в стихах «Евгений Онегин». Но в этом ничего особенного нет. Выучить наизусть можно все что угодно… А что касается книги… Просто есть такие моменты в жизни, которые как-то выпукло запоминаются.
— Вы провели в Матросской тишине полтора года. У вас действительно в камере было шестнадцать человек?
— Коек было шестнадцать. Но камера ни разу не была настолько заполнена.
— Трудно было найти общий язык с соседями?
— Почему трудно? Что я, из каких-нибудь дворян, что ли? Помните, как Чехов говорил: вот чернильница, о ней можно написать роман. Так и камера, о ней тоже можно было бы написать роман.
— В ваших мемуарах вы пишете о сокамерниках?
— Почти нет.
— Они этого не заслуживают?
— Почему же? Просто книга моя не о том. А среди соседей по камере у меня были весьма достойные люди. Например, привезли из Нижнего Тагила Алексея Берестового, который был начальником ОБХСС. Посадили за взятку: ему подарили коньяк и еще что-то на общую сумму пятьсот рублей. Вот за это он получил пятнадцать
лет. А сейчас воруют миллиардами, и ничего…
— Вы чувствовали особенное к себе уважение?
— Да. Ведь это не уголовники какие-нибудь, а нормальные люди. Если нужно было помочь — помогали. Меня тогда тяготило только то обстоятельство, что Эмма Евгеньевна была нездорова, не могла самостоятельно ходить после автомобильной аварии… Ну и, конечно, то, что вот министр — и арестован… Но это все в прошлом.
— Кто оплачивал расходы на адвокатов?
— Сумму мы заранее не обговаривали. Ну, собрал сколько смог. Товарищи помогли… А уж адвокаты смогли грамотно доказать невиновность. Сама
статья «измена родине» никак не вязалась с нашими действиями — она значит «действовать в интересах другого государства». А мы все делали для того, чтобы помочь родине. Так что это были просто голые слова Степанкова, малограмотного, прямо скажем, юриста… Тогда, на процессе, формулировку обвинения изменяли несколько раз. Самостоятельной статьи о попытке захвата власти в Уголовном кодексе не существовало.
— Вероятно, сейчас-то она уже есть…
— Законы всегда подгоняют под существующую власть. Сейчас особенно.
— Почему вы сам решили рассказать о путче?
— Почему вы так это называете? Почему не называют путчем расстрел Белого дома? Что это за путч, если перед тем, как объявить чрезвычайное положение, мы поехали к президенту в Форос?
— Но вы же, говорят, его изолировали.
— Да какая там изоляция! У него был самолет, вертолет, у него было столько систем связи! Он мог в любое время куда угодно поехать и куда угодно пойти. Охрану ему никто не менял, об этом он пишет неправду — только то, что выгодно.
— Так почему вы решили рассказать про август 91-го только сейчас?
— Вы думаете, это так просто — издать? Они ведь хотят деньги заработать, и большие, но чтобы мне при этом ничего не дать. Мы ведь теперь живем по волчьим законам.
— Вы хотели, чтобы страна жила по иным законам, поэтому и вошли в ГКЧП…
— А что в этом плохого? Мы старались сохранить государство. А что сделал Горбачев, когда эти трое поехали подписывать договор о роспуске Союза? Он же знал, но палец о палец не ударил! Если говорить серьезно, этих троих богатырей можно было там связать и привезти на Лубянку, чтобы проспались. А потом спросить: вы что делаете, пьяные морды?
— После 1991 года вы встречались с Горбачевым?
— Только раз — на суде, когда судили Варенникова. Он тогда не согласился с амнистией.
— Разговаривали?
— Нет. Он сказал: «Мне жаль Ахромеева и тебя». А я ему сказал: «А мне жаль родину». Он махнул рукой и пошел. Безответственный человек…
(В этот момент Дмитрий Тимофеевич взял небольшую пачку листов с печатным текстом и протянул мне: «Вот, прочтите… Будете одним из первых читателей». И я прочла: «Это было в 2.15 двадцать второго августа 1991 года. Разрывая густые серые облака, президентский самолет ИЛ-62 вышел на прямую перед посадочной полосой аэродрома Внуково. Предчувствуя недоброе, я всматривался в иллюминатор, на ярко освещенную юпитерами площадку перед Внуково-2, где суетились какие-то люди в камуфляжной форме, бегали солдаты, от стеклянного здания отъезжали машины. Перед нашей посадкой приземлился ТУ-134, на котором летел президент Горбачев со своей семьей. Его сопровождали с Фороса Руцкой, Силаев, Бакатин, Примаков и охрана. С ними же под предлогом «поговорим в самолете» улетел Крючков. Мы, Лукьянов, Ивашко, Бакланов, Тизяков и я, летели тоже из Крыма. По времени разница составляла 15-20 минут. Были поданы трапы. Я обратил внимание, что к каждому из трапов подошли по три крепких мужчины, приняли соответствующую стойку. К президентскому выходу шел Баранников. Я сказал сопровождавшему меня полковнику Акимову, что меня сейчас арестуют. «Не может быть, — возразил он, — от президента передали, что вам назначено встреча в Кремле утром, в десять часов». Спустившись с трапа, мы пошли в здание. При входе в зал Баранников сказал Акимову: «Вы свободны. А вас, — обращаясь ко мне, — попрошу пройти в следующий зал». Мы вошли в небольшую комнату, где обычно размещалась охрана. Здесь стоял незнакомый мне человек с копной нестриженых волос на голове. Он довольно бойко представился: «Я — прокурор РСФСР Степанков Валентин Георгиевич». Он спросил, есть ли у меня оружие, и здесь же объявил, что я арестован в подозрении на измену родине в соответствии со статьей 64 УПК. Я слышал за дверью работу двигателей различных марок автомобилей, представители Варенникова выстраивали колонну, заходили, о чем-то спрашивали его и прокурора, а затем предложили мне идти к машине. Подвели к «Волге», я сел на заднее сиденье между охранниками, которые были вооружены автоматами Калашникова с откидными прикладами, а на первом сиденье разместился так же вооруженный офицер из КГБ. Наступила зловещая тишина…»)
— Вы были тринадцатым и последним министром обороны Советского Союза — государства, которого больше нет. Это число — тринадцать — что-то значит для вас?
— Все это чепуха. Все эти гороскопы, числа… Я в это не верю. Мне в Матросскую тишину приносили много писем от простых людей. И было там одно: дескать, цыганка гадала, что я стану министром, потом сяду в тюрьму… Нет, не верю… А писем было много. Одни выражали сочувствие. Другие писали, что надо было действовать как-то иначе, что надо было кого-то расстрелять… А кого расстреливать? У Белого дома собрались даже такие люди, как Юлия Друнина… И она поверила в то, что надо от кого-то защищать демократию. А через два месяца поняла, что ошиблась, и наложила на себя руки.
— Дмитрий Тимофеевич, вы первый военный министр России после Александра Меншикова, который подвергся репрессиям со стороны государства…
— Да, Меншиков был сослан в Березов, а я в Матросскую тишину.
— Но Меншиков в месте ссылки построил храм, и местные жители до сих пор почитают его за святого… Это правда, что вы не верите в Бога?
— А вы верите?
— Верю. Но не в того, о котором вы как-то сказали, что он ходит по небу в золотых тапочках… Просто есть мудрая сила, которая может больше, чем все люди, вместе взятые.
— Значит, вы не верите в собственные силы. Если бы эта чудодейственная сила была, не было бы так много разновидностей религии. Я согласен только с тем, что вера помогает воспитывать людей, когда помочь этому больше ничто не может. Вот говорят: «Мы с Божьей помощью победили». Да мы были безбожники! Гитлер, правда, тоже был безбожник, и говорил: «Совесть — это химера».
Моя мать почти всю жизнь была верующей. Столько было несчастий в жизни, и она все молилась… Или вот еще. В Афганистане на несколько деревень один мулла. Мы привозим в деревню сахар, муку, а они не берут. С голоду умирают, а не берут, пока не придет мулла и не поделит это все. Ну, где тут рассудок?
— Но если бы не мулла, они, вполне возможно, передрались бы!
— Верно. Вот я и говорю: в таком безыдейном обществе, как наше, вера — единственная сила, которая может объединить народ.
— Когда я звонила вам, чтобы договориться о встрече, вы назвали себя самым простым пенсионером. Что это значит? Вот генерал армии Родионов утверждал, что оклад министра обороны еще недавно не превышал восьмисот рублей старыми…
— Не знаю, как сейчас. Я получал одну тысячу сто рублей. Но это не был оклад министра обороны — деньги мне полагались как кандидату в члены Политбюро. Так мне порекомендовали. Вот сейчас очень часто говорят о кормушке. А я считаю, что мы более чем скромно жили. Да, могли заказать из продуктов все что угодно, но платили за это деньги, большую часть моей зарплаты, Эмма Евгеньевна свидетель, отдавали за продукты, а еще была обслуга, которую тоже нужно было кормить. Да нам деньги практически и не были нужны. Это сейчас строят дачи, виллы. Я ничего себе не построил.
— Даже дачу?
— Даже дачу. И машины нет. Ну, служебная, конечно, была. И на всякий случай на книжке лежало десять тысяч — на автомобиль. Но после инфляции, так же как у всех, эти деньги пропали. Вот потому я и сказал, что простой пенсионер, у которого пенсия исчисляется за выслугу лет, ранения — я ведь инвалид второй группы. И все равно получаю не больше остальных. Ну, может быть, за маршальское звание доплачивают…
— Есть ли в вашей жизни то, что не хотелось бы вспоминать? Или хотелось бы изменить, вернуться во времени и изменить?
— Я очень рано остался без отца — он умер а 1934 году. Тот, кто потерял отца, поймет то, что я испытывал… В 1946-м женился, а через три года, когда моей дочери было два с половиной, она упала в кипяток и сварилась… Много позже, когда из Даурии мы переехали в Симферополь, казалось бы, оставалось только жить и радоваться. Генерал-лейтенанта получил, условия жизни хорошие, море в двух шагах. Но моя первая супруга Екатерина Федоровна заболела раком. Уехали в Москву, чтобы можно было лечить ее в онкологическом центре Бурденко, но все же она умерла. Похоронил супругу, еще год работал, а потом один добрый человек говорит мне: «Чего сидеть, поезжай в войска». И я поехал заместителем командующего на Дальний Восток. Потом туда ко мне приехала Эмма Евгеньевна. Так образовалась новая семья. Мне в то время уже пятьдесят четыре исполнилось. Но к тому времени мои несчастья не кончились. Позднее умер мой сын, а через год следом за ним — его жена. Их дочь с тех пор находится на моем обеспечении. Так что в то время, когда у меня на службе были какие-то удачи, горя был полон дом.
— Вы знаете, как своеобразно расшифровывали в Дальневосточном военном округе вашу фамилию? «Я Заставлю Офицеров Вспотеть».
— Никогда об этом не слышал. Хотя в какой-то мере это правда. Я заставлял людей работать.
— Именно поэтому вас назначили министром?
— Ну, министром я стал, может быть, случайно. Тогда надо было Соколова убрать. Человек он в высшей степени дисциплинированный как военачальник, организованный. Но у них с Шеварднадзе были крупные расхождения во взглядах. Потом еще этот Матиас Руст сел — шикарный повод! Но если посмотреть на законность этого… Ведь в 1983-м, после того как сбили «Боинг» над Южным Сахалином, появилось решение правительства категорически запретить сбивать гражданские самолеты. Над Рустом тогда пролетали несколько раз, но никто же не думал, что у него хватит наглости сесть на Васильевском спуске!
— Почему именно вас назначили министром обороны?
— Незадолго до этого на Дальний Восток приезжал Горбачев. Он посетил несколько частей, штаб округа, я докладывал положение дел и, наверное, ему понравился. Ну, и прежде всего ему понравилась обстановка в нашем полку, где Михаил Сергеевич присутствовал на обеде в столовой. Мы тогда в отличие от других хлеб никому порционно не давали — сколько хочешь, столько и бери. Он меня спросил: «А что это вам дает?» «Большую экономию», — отвечаю. Тогда же солдату полагалось 850 граммов хлеба. Отдашь куском, он там откусит, тут откусит, а остальное бросит. А тут — нарезано ломтиками, ешь сколько надо. А что остается — на ужин. Таким образом мы за год всем округом экономили 9 тысяч тонн хлеба. А сейчас армию кормить нечем»…
…Книга маршала Язова «Август 1991. Где была армия?» вышла в свет только шесть лет спустя, в 2004 году, и почти сразу стала раритетом. Позднее появилась и другая его книга — «Удары судьбы. Воспоминания солдата и маршала». И о той, моей встрече, наверное, можно было бы написать целую книгу. Книгу о том, как человек, свято и неотступно следующий своим убеждениям, в какой-то момент становится игрушкой в руках судьбы. Или о том, как мое поколение, представителям которого в те тревожные августовские дни 91-го было около двадцати, постигает причины и следствия поступков, составляющих историю страны… Однако опыт человеческой жизни в какой-то момент оказывается гораздо больше и значительнее, чем даже история страны. В этот момент человек только и способен делать историю. Не писать ее, не толковать, нет. Именно делать. В полном соответствии со своим знанием и своей совестью.
Анна РОМАНОВА
(Впервые интервью опубликовано
в еженедельнике «Собеседник» в 1998 году)