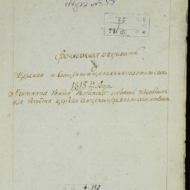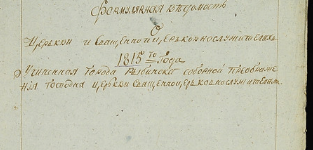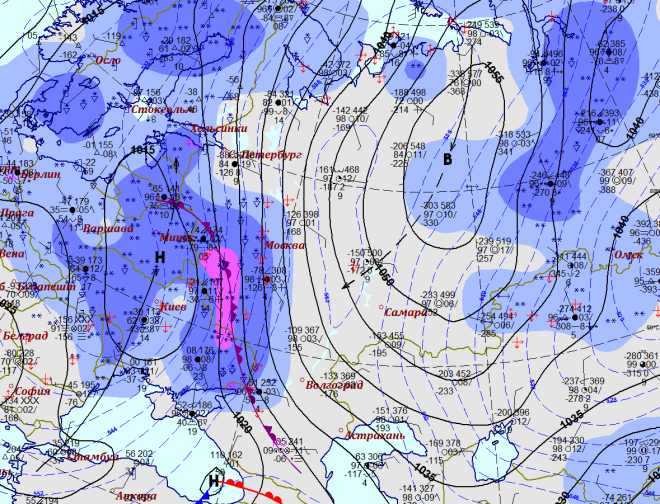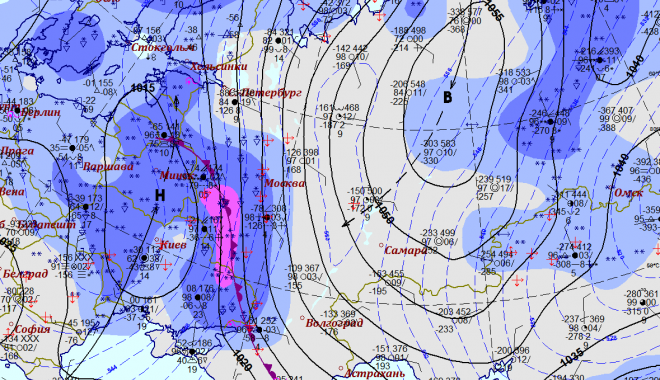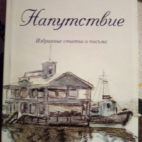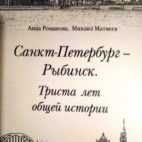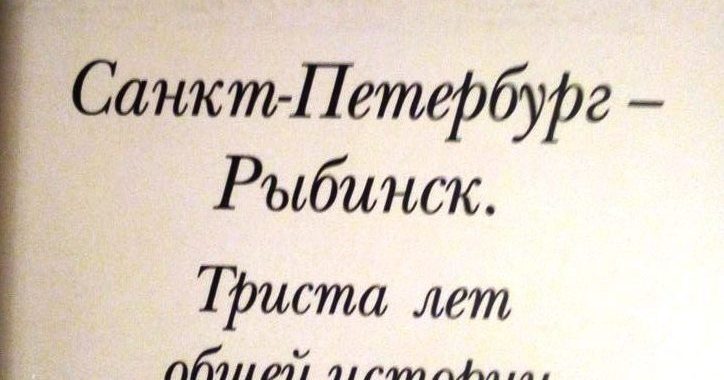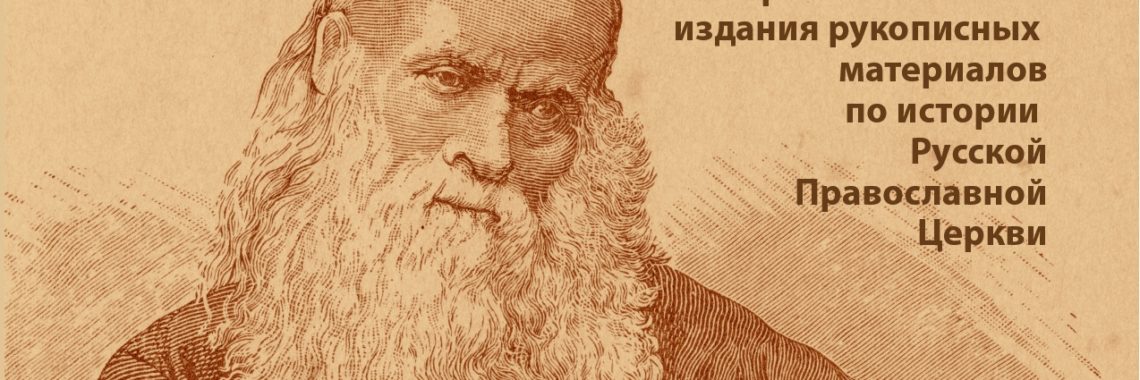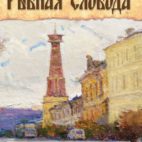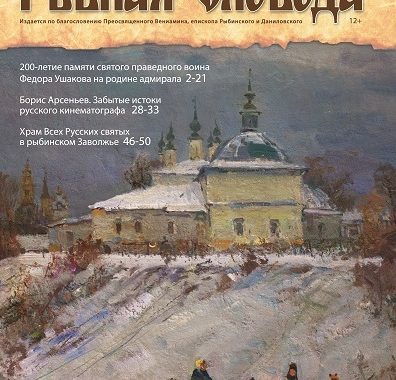Уважаемая «Рыбинская среда»! Мне всегда радостно следить по твоим страницам за многообразной жизнью непростого, нерядового города, особняком стоящего и в Ярославии, и во всей России. Многое в нем очень значительно и ценно, но в ряду его ценностей рядом общепризнанно высокими (и многажды рассказанными) есть и совсем скромные (но чудесные), большим вниманием как журналистики, так и литературы пользующиеся совсем мало. И мне хотелось сегодня рассказать об одной из них, начав с изложения вполне серьезного, а закончив словами искренней сердечности.
Рыбинск как один из городов классической русской провинции, в первую очередь, представляет вниманию гостей свой парадный облик, сформировавшийся под влиянием образцовых проектов, профессиональных исполнителей и строгих градостроительных нормативов. Лучший, представительнейший облик города создан застройкой его центра зданиями, отвечающими высоким требованиям теории архитектуры и градостроительства. Венок имен его создателей богат и ярок, от Росси до Уткина. И несмотря на определенные провинциализмы, естественные для уездного строительства, парадный облик города солиден, выдержан, эффектен и строг.
Таким знали в целом столицу бурлаков и столицу волжской хлебной торговли тысячи и тысячи приезжих на недолгое время и еще большее число проезжающих, которым, как отменно сделанная визитная карточка, представлялась Крестовая улица и прилегающие к ней, дающие внушительные сплошные или почти сплошные фасады добротной классики.
Но город имел в остатках и сейчас еще имеет и иной архитектурно-застроечный мир. И, как мы полагаем, мир весьма разнообразный, эмоционально насыщенный, полифонически звучащий и весьма достоверно передающий бытие старого Рыбинска. Этому облику свойственны иные визуальные и внутренние качества, свойственна образная открытость гораздо большая и яркая, чем внешнему ряду города. Ему свойственна более многообразная духовная напряженность и более широкое представление городского общества через систему образов, достигнутых иными средствами, нежели на «сцене» представительной застройки.
Мы имеем в виду громадный массив внутриквартальной застройки, молчаливо (многоголосо!) живущей за фасадом благородной классики и блистательного модерна.
Мы отнюдь не противопоставляем одно другому, внешнее – внутреннему. Мы не можем не признать прекрасного звучания классических фасадов, как не можем не признать, что именно модерн сыграл огромную роль в переходе от рафинированных классических решений к свободному творчеству внутриквартальной и внутридомовой застройки. Он не стремился своим новым строем унифицировать город. Неся множество истоково разных элементов, от природнообразных до позднеготических, он сломал жесткость и непререкаемость прежних решений и обеспечил переход к большей творческой свободе, отражающей субъекта в объективном процессе градосозидания.
И это освобождающее влияние оказывапл уже достаточно ранний «блистательный» модерн. Но еще больше для свободы выражения личности заказчика и строителя, для еще большей субъективизации дал поздний, «улыбающийся» модерн (и в Рыбинске это было хорошо заметно). Он привел к псевдорусскому строю ряда мест Рыбинска, а затем и к необычно насыщенной, живой и… трогательной картине «зафасадной» архитектуры. Именно ей и присуща самая острая, точно выраженная социальность созидания.
Архитектура дворов находилась в самой прямой связи с «архитектурой» создания нового социума. Пожалуй, это даже «социум в социуме», общество двора в обществе парада. Единство этих двух городских процессов еще недавно было хорошо просматриваемо на примерах центрального района старого Рыбинска, от стрелки Черемухи до нынешней улицы Пушкина.
Таковой богатой и сочной картины, хорошо открытой для наблюдений и выводов, не было и быть не могло в малых городах губернии, как Мышкин, Данилов, Любим, даже Углич. Социальные потоки, концентрация бытийных явлений, материальная основа городского бытия там были качественно иными.
Потому Рыбинск оказывался уникальным случаем для наблюдения и осмысления не только «архитектурной анатомии» достаточно большого города (хлебной пристани!), но и анатомии городского общества.
Сфера внутриквартальной застройки неожиданно являла наблюдателю многогранный мир творчества свободного, непосредственного, раскованного и очень личностного. И … ещё юного в своих исканиях.
Здесь легко было проследить не только производственные особенности почерка разных артелей, но можно было иметь достаточно материала, чтобы разглядеть их жизненный вкус и более того – их русское миропонимание. Примеры этого были множественны, особенно в районе кварталов возле пожарной каланчи.
Было в старой «зафасадной» застройке и много картин для размышлений о цветовой палитре старого города, о цветовом ряде, принятом русским провинциальным эстетическим вкусом без нажима со стороны высокой архитектурной мысли. Было также немало возможностей оценить особенности работы местных кирпичных заводов не только на уровне качества продукции, а и на уровне ее массового эстетического восприятия.
Наконец, вполне прослеживаем был и довольно многоликий социальный эстетический заказ. Фасадно благородный город в своем «зафасадном» срезе оказывался живущим по отнюдь не таким чистым и строгим «канонам», и в свободном, слабо регламентируемом своем «обустроительстве» осуществлял совсем иной идеал.
Прослеживаемы были и влияния вкусов, приносимых «высокими стилями» и органично перерабатываемых и интерпретируемых для житейского непарадного «обихода» рыбинцев.
В этой связи, наверное, полезно было бы прослеживать движение образов местной промышленной архитектуры грани веков XIX и XX. Мне тогда определенно казалось, что образы завода «Богемия» хорошо проявляют векторы как тогдашних художественных настроений, так и очертания искомых идеалов, и стремление к учреждению в немалой мере СВОЕЙ образной системы. Но внутриквартальные и внутридворовые зоны старой рыбинской застройки для меня были гораздо ценней, здесь чувствовалась более весомая интенсивность выражения человеческого «я» в макрокосме большого города.
Несмотря на то, что «краснокирпичный стиль» вводил в застройку некое жесткое единство, во дворах Рыбинска он вёл себя качественно по-другому, и фасадному он был словно не родня. Именно во дворах он смог создать свою «субкультуру», и уверенно отстаивал её пространство.
Я полагал, что эта «субкультура» представляла едва ли не самую богатую почву для аналитического рассмотрения жизни «зафасадного» социума, для рассмотрения феномена ярких национальных проявлений в архитектуре. Я и сейчас, когда весь этот внутриквартальный и внутридворовый мир хлебной столицы почти утрачен, остаюсь во мнении, что в нём существовал некий особый мир русского человека, некая особая плоскость общерусской жизни, могущей дать интереснейшие понимания контактирования «людей двора» с «людьми фасадов». Ведь вся дворовая застройка была столь своеобразной и столь почвенно живой, что глубина истоков ее образности просто не вызывала сомнений. И я оставался в уверенности, что это отнюдь не только псевдорусские влияния официальной архитектурной мысли. Нет, я усматривал, что здесь, вольно или невольно, но несомненно начинали реализовывать себя исконные, изначально и всегда мастерам свойственные народные русские вкусы. Я не терял этой уверенности, странствуя из двора во двор, и во всех явно смягчённых и явно «осказоченных» очертаниях построечек и деталей без сомнения узнавал билибинские и васнецовские начала.
Я знал, что и заказчики, и исполнители этих складов, амбаров, флигелей, каких-то домиков и даже домушек ни на шаг не приближались ни к высоким дверям академий архитектуры или живописи, да и Билибина и Васнецова, пожалуй, не знали. Но они душевно, внутренне, вековечно «знали», как сделать поприятней, покрасивей, породней. И это «покрасивее» и «породней» было удивительно русским и родным северным деревянным образам, очень искренним. Иной раз можно было растроганно улыбнуться этим откровенным, почти деревенским самовольствам строителей. Переклик с древними, чуть не средневековыми архитектурными представлениями и любимыми когда-то народными манерами прослеживался несомненный.
… Странствия по рыбинским дворам меня истинно увлекали, нередко я тратил на них чуть не целый день, едва успевая к последнему мышкинскому автобусу. Меня занимало всё – и тихая устоявшаяся жизнь дворовых стариковских компаний, и тема одинокого дерева, одиноко вознесшегося к небу в каменном колодце дворика, и «плюш» и «бархат» мхов и лишайников, прижившихся по сводам и аркам, и ясное, но не резкое эхо в переходах и самих дворах.
Двор (или дворик) были, как правило, живописны и непринужденны. Здесь, похоже, никто и не следил за строгостью построенного, но все необъяснимым образом «следили» за его живописностью. И все постройки (и особенно построечки) согласно являли уют и некую доброжелательность очертаний. Они оказывались согласованно соразмерны друг другу, и уж обязательно соразмерны людям, – хозяевам. Они как-то ласково лепились одна к другой, непринужденно размещая свои окошки, двери, крылечки.
Порой мне казалось, что зодчий здесь отдыхал, а то и вовсе, махнув рукой, уходил прочь, всё оставляя на волю каменщиков. И те принимались не столько строить, сколько благодушествовать, с сердечным удовольствием «лепя» невеликие объемы, вкрапляя забавные очертания, «рисуя» самые свойские картинки, чуть не по-домашнему обустраивая пространство.
Я весь отдавался этому пространству. Мне было в нём удивительно уютно. Я бродил по еще живым и уже опустевшим дворам, фотографировал, пытался зарисовывать детали и приемы кладки, умилялся веселым находкам мастеров и восхищался их «воспоминанием» древнеющих образов.
Мне было отрадно следить, где кончалась сфера действа одной каменщицкой артели и начиналась работа другой. Мне любопытно было оценивать, насколько «удар камертона», данный каменщиками, был услышан и поддержан плотниками, кровельщиками, кузнецами. Мне было радостно осознавать (или воображать), насколько драгоценна для простого работника вдруг обретенная творческая воля, приводящая мастеров на грань почти детской игры со всякими заулочками, полочками, наличничками, карнизиками… Здесь во всём-всём явно жила очень дорожившая этим своим существованием громадная творческая свобода.
Порой я громко смеялся, обращаясь к давно забытому мастеру: «Это кто же тебе разрешил такое окошко выложить?! Да его же хоть в семнадцатый век неси!» Порой я восхищенно высказывал своё большое уважение за смелую тонкость чувствования, явленную строителями: «Тут перед вами хоть шапку снимай… Воспарили!» А временами я просто садился на лавочку или на камушек и молча любовался еще одной незамысловатой, но искренней сказочкой, исполненной, должно быть, с большим удовольствием. (Я ведь и сам работал каменщиком, и знаю, о чем говорю…)
Несхожесть дворов с фасадами была дивно впечатляющей. Образы являлись прямо несравнимые и даже не слишком близко родные. Так, если переход на Крестовую из двора оформлялся жесткой горизонталью., то со двора здесь красовалась плавно заоваленная коробовая арка. Если фасад нёс стройные ряды окон, эффектно обрамленных роскошными наличниками, то со двора можно было увидеть и разноуровневые окна, и разноформатные проёмы, и забавные окошечки лестничных площадок. И всё это оказывалось дол того нескучным, до того располагающим, что хотелось душевно одобрить эти дворовые вольности.
Как странно… В Рыбинске я больше всего любил дворы. Не Набережную, не саму Крестовую, не площади…. А именно дворы. Мне казалось, что душа простого рыбинского люда жила именно здесь. И она здесь не просто проводила своё свободное время, а заботливо, как-то чуть не по-детски обустраивала и обживала это пространство.
Ах, это обживание… Чего стоили крошечные садики перед малёхонькими флигельками, простодушно пристроенными в разных углах двора. Как красовалась на окошечках герань… Какие там были клумбочки, верандочки, беседочки… Всё маленькое, всё с трогательной заботой выделанное, и всё согласно отвечающее тому «удару камертона», который в конце XIX века прозвучал одновременно с первым звоном мастерка каменщика.
Дворов, столь же живых и прелестных, как в Рыбинске, я не видел больше нигде. Они были тонко очеловечены и одухотворены и простым и искренним творчеством, и простой и искренней жизнью. Она в них умещалась очень насыщенно, плотно и уютно. Для меня такая «дворовая Ойкумена» надолго стала лучшим местом для прогулок, наблюдений, размышлений и, наверное, фантазий. Я полюбил Рыбинск именно из-за неё. В остальном он мне, жителю деревни, а потом города-малыша, близким не казался. А дворы – прелесть!
Они, конечно, были старыми. Но колдовство времён года и времён дня всегда дивно обновляло их, и каждый раз они казались мне по-новому привлекательными. По-новому теплился старый кирпич-каленец, по-новому нежно зеленел лишайник, по-новому стучал по крышам дождь. И примирённо с фасадно-уличными неизбежными переменами текло здешнее внутридворовое время.
Двор представлялся мне духовно и бытийно суверенным, толстыми стенищами своих домов он отгораживал, защищал людей от надоевшей им шумности и суеты, и степенностью своих построечек, посадочек, привычек успокаивал, выравнивал душу. Это была территория отлаживания, уравновешивания человеческого состояния. Нынешние социологи сказали бы – территория реабилитации (до чего жёсткое и нерусское слово…)
Иногда я принимался рассказывать про рыбинские дворы, мне даже случалось выступать с докладом о них. (начало моего сегодняшнего повествования – это «кусок каркаса» именно одного из таких докладов). Но мне почему-то не случалось встретить хорошего понимания. Люди слушали уважительно, с добродушным снисхождением или с необидным равнодушием.
А однажды после моего выступления ко мне подошли две молодых женщина, кандидаты наук, и с нескрываемым недоумением спросили: «А разве не таковы же дворы, например, в Угличе или в Ярославле?» Мне было впору заплакать от обиды за милое рыбинское дворовое царство. Я растерялся. Я было принялся объяснять великую разницу, обратился к угличским дворам на Ростовской и Ленинской, к ярославским – на Свободе, и вдруг понял: ничего говорить не нужно. Этот мир им неведом. Душевно неведом. Сердечно неведом… Им ничего не скажем ни теплота старинного кирпича, ни смелость реденькой травки, ни мелодичный перезвон дождинок по старой крыше.
И я понял ещё большее: что это царство потаённой архитектуры Рыбинска своих исследователей и ценителей так и не дождётся. Не родится ласковая и умная книжка про этот мир.
Старые рыбинские дворы, ау! Где вы… Уже только в наших воспоминаниях. Только там и мягкое многоцветье ваших красок, только там и ваше наивное обустройство, только там и вся трогательная «самость» вашего бытия. Великий, славный город, вмсте с ними не утратил ли ты немалую часть своей души?
С глубоким уважением,
Гречухин Владимир Александрович, г. Мышкин.