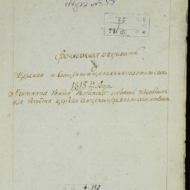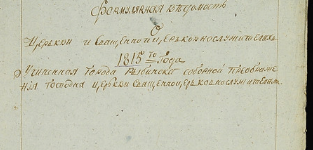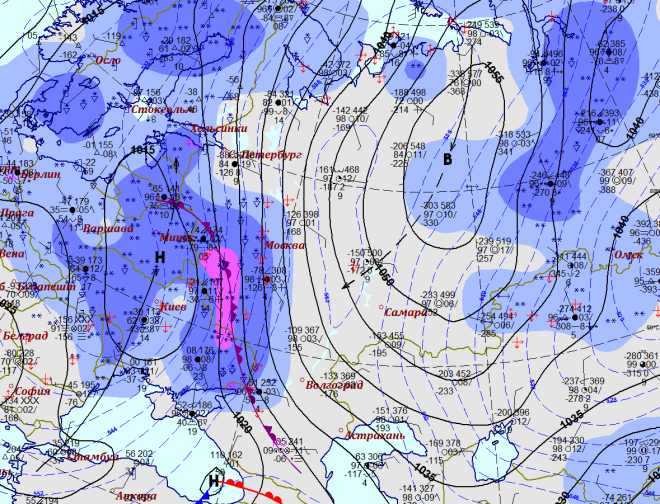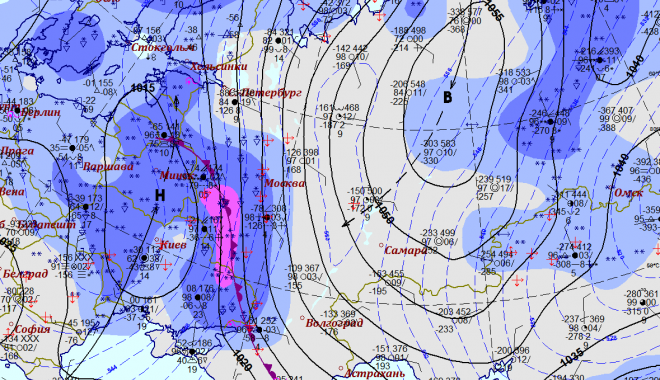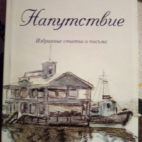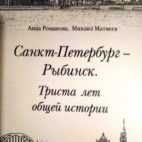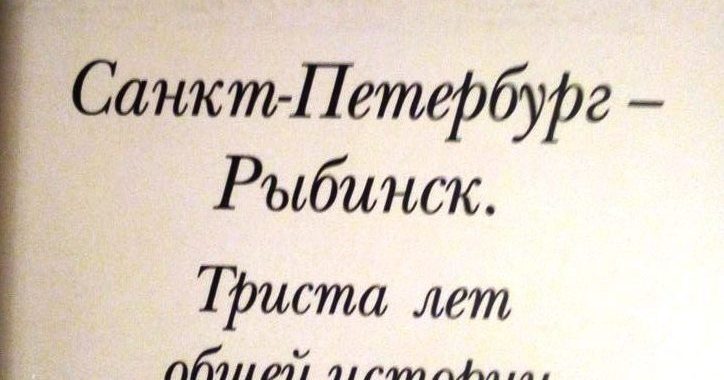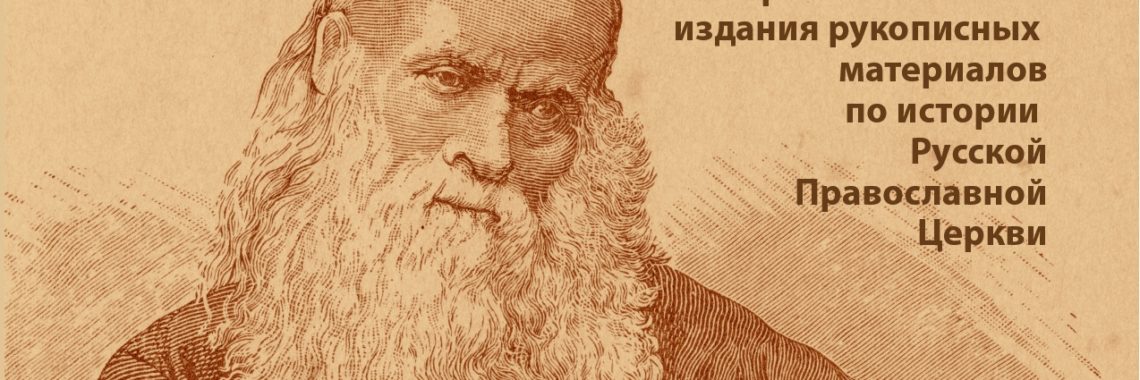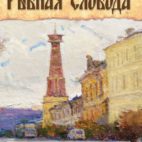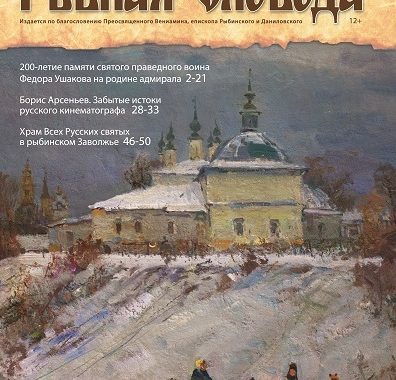Вячеслав Корнев.
Рассматривая сегодняшние фотографии Толгского монастыря, я почти ничего не узнаю. А ведь я там был, и даже жил в нем почти два месяца. Правда, давно это было.
Если я скажу, что оказался там в качестве бойца студенческого строительного отряда, людям зрелого возраста дальнейшие комментарии не понадобятся. Племени же младому-незнакомому, подрабатывающему на досуге официантами, разносчиками пиццы, мерчендайзерами, распространителями рекламы, наверное, надо объяснить, что отцы их, а, пожалуй, уже и деды проводили летние студенческие каникулы, строя в разных уголках страны что-то вполне реальное: жилье, животноводческие комплексы, дороги, водонапорные башни, дома культуры и даже заводы.
Несмотря на то, что жили мы, как позднее обнаружилось, под тяжелой пятою тоталитаризма, участие в ССО было вовсе не обязательным. Напротив, в отрядах, отправлявшихся в самые труднодоступные районы, где и оплата труда была соответственно выше, существовал реальный конкурс на каждое рабочее место. Победителя в нем определяло отнюдь не некое комсомольское начальство, а общественное мнение, ибо каждому было небезразлично, с кем ему придется пару месяцев жить бок о бок, хлебать кашу из одного котелка, чью физиономию придется наблюдать круглосуточно.
Не знаю, сколько пиццы надо разнести современным юношам и девушкам, чтобы заработать на жилье, но для сравнения скажу: три мои приятеля-детдомовца (было и такое – детдомовцы учились в престижнейших ВУЗах) за студенческие годы скопили деньги на кооперативные квартиры.
Имелись и отряды, которые не сулили никаких особых доходов, но позволяли стать причастными к тому, что в обычной жизни среднего человека касается мало, но само по себе очень интересно. Таковыми были в частности РССО – реставрационные студенческие строительные отряды. Существовали они под эгидой ВООПИКа – Всесоюзного общества охраны памятников искусства и культуры.
С началом Перестройки, и особенно Гласности, когда публично говорить стало можно любые глупости и даже в охотку клеветать, общество это было объявлено либеральной общественностью оплотом консерватизма и великодержавного шовинизма. Ходил такой стишок про него:
И хамы, обезглавив храмы
своей же собственной страны,
вступили в общество охраны
великорусской старины.
Стишок небесталанный, но злобный и несправедливый. Члены ВООПИКа, с которыми я общался лично, были людьми мягкими, интеллигентными и искренне страдавшими за порухи, нанесенные русской культуре двадцатым веком… да еще и раньше. Что касается «великорусского шовинизма», то многие из них были, как теперь принято говорить, «лицами еврейской национальности». Кстати, и в нашем стройотряде дело обстояло примерно так же, никого это не волновало. «Вопросы крови» стали интересовать общество лишь по мере построения «демократии». Я даже не берусь судить, что здесь первично: усиливающаяся тяга к «самоидентификации» или зудящие со всех сторон призывы к толерантности. Ведь назойливо повторяемое к месту и не к месту слово «толерантность» поневоле заставляет задуматься, что все мы разные. – Мысль, которая не приходила в головы выпивавшим «на троих» советским гражданам: русскому, татарину и еврею.
И еще по поводу стишка: именно в Толге нам встретился экземпляр, буквально описанный вышеприведенными строчками. Но это был экземпляр уникальный, заслуживающий отдельного разговора.
Основой нашего отряда являлись студенты физфака ЛГУ (Ленинградского Государственного университета). Объявление о его формировании было общедоступным, но так получилось, что отреагировали на него лишь коренные ленинградцы. А из иногородних отдать дань возрождению русской культуры решились только я и мой одногруппник Славка-якут. Своеобразным был и его гендерный состав: хотя на физфаке явно преобладали представители сильного пола, в нашей компании большую часть составляли девушки. Родители многих преподавали в университете, так что злые языки не без основания называли нашу боевую единицу «батальоном профессорских дочек». Для полноты картины добавлю, что были среди нас и пара девушек с филфака – чьи-то подружки-одноклассницы, двое юношей из Политеха — тоже чьи-то знакомые, да еще парочка «трудных подростков». – Дело в том, что как раз в это время Ленинградский обком ВЛКСМ принял решение, что в стройотряды обязательно надо брать… ну не малолетних преступников, а просто неблагополучных ребят. Чтобы они перековывались в совместном труде со старшими товарищами. Мы, не много сумняшеся, взяли младшего брата одной из наших девушек – папа их был директором крупного ленинградского НИИ, — а тот прихватил с собой закадычного приятеля.
Толга была не первым нашим «совместным предприятием». За год до этого мы трудились в Суздале, который тогда еще не стал «торгово-развлекательным центром», а был тихим, по будням даже сонным провинциальным городком. Но именно городком, ибо каждый коренной суздальчанин с пеленок знал, что «Москва большая, да деревня, а Суздаль маленький, да город». Однако суздальская наша экспедиция заслуживает отдельного рассказа. Тут же я просто хочу заметить, что компания у нас была дружная, спаянная и даже успевшая расколоться, ибо часть былых бойцов в том году решила ехать не в Ярославль, а в Старую Ладогу — на раскопки.
Про Ярославль в ту пору мы знали только то, что это большой старинный город на Волге. А про Толгу никто и слыхом не слыхал.
Ранним летним утром наша компания, увешанная необременительными рюкзаками, высадилась на перроне вокзала Ярославль-Главный. Улицы города были тихи и пустынны. Со стороны Волги тянуло запахом цветущих лип, хорошо приправленным ароматами большой химии. Никаких памятников старинной архитектуры в поле зрения не наблюдалось. Слегка разочарованные и не выспавшиеся, мы вслед за нашим Командиром отправились на поиски организации, любезно принявшей нас под свое крыло. Кажется, это было областное управление культуры.
ДОСЬЕ. Командиром нашего «женского батальона» была, естественно девушка. Если у кого-то эта информация вызывает в памяти образ задорной Анки-пулеметчицы или суровую фигуру героини Первой мировой Марии Бочкаревой, спешу разочаровать: наша мать-командирша – Ирка П. — была девушкой субтильной, невыразительной, но обаятельной. Понятно, что у двадцатилетних оболтусов гормоны просто из ушей брызжут, а вид юбки вызывает самые смелые ассоциации, но мне лично никак не удавалось разглядеть в Ирке существо женского пола, хотя один мой приятель был в нее долго и безответно влюблен. Нас же связывали исключительно дружески-панибратские отношения. И даже в обстановке совершенно романтической, когда мы в свете полной луны сидели под сенью темных аллей (а темных аллей в разных монастырях и усадьбах имелось предостаточно), и тут всякие амуры и купидоны старательно облетали нас стороной. Чего нельзя сказать о комарах. Мы просто болтали о том — о сем, причем болтали весьма громко, ибо Ирка ко всему прочему была изрядно глуховата. Но в обычной жизни она слуховой аппарат носить стеснялась, а надевала его только для общения с начальством. Характер мать-командирша имела твердый, нордический. Что не удивительно, потому что она была пра-пра-какой-то внучкой поэта Языкова, а тот вел свой род из остзейских баронов. – В городе Ирка свою баронскую печать мне показывала.
Само собой, была Ирка и мелкой комсомольской деятельницей, иначе командиршей она бы не стала: все ССО находились под неусыпным контролем ВЛКСМ. Однако общественная ее активность имела и оборотную сторону. Несколькими годами позднее Ирка дала мне ключ от своей квартиры на Охте – сама она жила с мамой в районе Исаакиевской площади, — а мне надо было некоторое время перекантоваться в Питере. Ни о чем она меня не предупредила, поэтому, открыв дверь, я обомлел: весь пол квартиры был уставлен стопками несброшюрованной тамиздатовской литературы. Тропки тянулись только к дивану, на кухню и в туалет. В основном это были недоступные тогда поэты Серебряного века: Гумилев, Сологуб, Иванов. Но имелись и «Окаянные дни» Бунина. Все это даже по тем вегетарианским временам тянуло не менее, чем на 5 лет строгого режима. Поскольку никакого срока моя подружка никогда не мотала, я склонен полагать, что стукачество в моем охАянном поколении было развито вовсе не так сильно, как это описывают дети и внуки потомственных чекистов, они же – профессиональные диссиденты.
Оказавшись насельниками Толгского монастыря, мы, конечно по крохам пытались узнать его историю. В то время это было очень трудно. Теперь это благодаря интернету очень легко. Но на случай, ежели среди читателей окажутся не слышавшие имени Толга, повторю несколько общеизвестных фактов.
ДОСЬЕ. Свято-Введенскиий Толгский монастырь находится на месте слияния почти незаметной речушки Толга с Русским Нилом (В.Розанов) – рекой Волгой. Основан монастырь в 1314-м году Ростовским епископом Прохором. Здесь ему явилась висевшая на дереве (предположительно кедре) икона Богоматери, позднее названная Толгской. Явление иконы произвело на епископа столь сильное впечатление, что он сам взялся за топор и принялся рубить на этом месте храм, вокруг которого позднее и возник монастырь. В 1392-м году икона начала источать цельбоносное миро. В 1553-м году здесь побывал Иван Васильевич Грозный, страдавший в ту пору какой-то ножной болезнью. Молитва перед чудотворной иконой его облегчила, и царь внес богатый вклад на построение каменного храма. Храм этот вместе с монастырем был разрушен польской бандой во время Смуты, а почти вся братия при этом была перебита. Икона же уцелела и совершила еще немало чудес: например, избавила Ярославль от морового поветрия.
Современный Свято-Введенский собор построен в 1681- 1688 годах. Примерно к тому времени относится и каменная монастырская стена, в которой устроено 9 башен. Еще в описываемое время на территории монастыря находится несколько храмов. Но мы их видели обезглавленными и не воспринимали как культовые постройки. Не помню я и главной колокольни. Скорее всего от нее оставался только нижний ярус. – В противном случае наши «трудные подростки» обязательно бы на нее забрались и меня с собою затянули.
Взявшись за перо (шариковую ручку, клавиатуру), я, естественно, поинтересовался, что же происходило в монастыре после его закрытия в 1928-м году. Некоторую информацию я принял к сведению, а некоторую, будучи очевидцем, отверг. Многие авторы, вскользь упоминающие 60-70-е годы, полагают, что советской властью Толгский монастырь был оставлен на прозябание, вплоть до саморазрушения. На самом деле, мнение это неосновательно. С середины 1960-х годов в СССР начал развиваться туризм, первой ласточкой коего был Суздальский архитектурно-художественный заповедник. Велись реставрационные работы и в Толгском монастыре. – Иначе как бы мы там оказались? – Но здесь дело осложнялось местной спецификой. – Если Министерство культуры намеревалось устроить в Толге нечто разухабисто-туристическое, то Министерство внутренних дел имело на этот объект совершенно другие виды: здесь у него располагалась не так уж давно построенная колония строгого режима для малолетних преступников. Колония находилась не в самом монастыре, но совсем рядом: северная стена монастырской ограды служила им границей. По одну сторону ее реставраторы восстанавливали старинные арки, а по другую между рядами колючей проволоки бегали сторожевые собаки.
Главным зданием колонии служила бывшая монастырская гостиница, но имелись и другие постройки, а в промзоне дымил небольшой литейный заводик, где юные зеки постигали все прелести труда на благо родины. К заводику вела узкоколейка. Понятно, что разрушать налаженное хозяйство колонии никак не хотелось. Поскольку деятели культуры вовсе не были уверены, чья чаша весов перевесит в этом споре, не так рьяно велись и реставрационные работы.
***
Поселили нас в надвратой Никольской церкви. Видно, такова уж была наша планида: в Суздале мы тоже жили в надвратной церкви Спасо-Евфимьевского монастыря. Девушки быстро загородили занавеской алтарь: у них уже образовалась дурная привычка – жить в алтаре. С точки зрения бытового удобства это было правильно, ибо остальная часть церкви оставалась проходной комнатой. Но с точки зрения церковных канонов… С этой точки зрения все мы были совершенно дикими язычниками.
Увлекаясь церковной архитектурой и иконописью, мы уже спокойно могли отличить владимирскую церковь от новгородской или псковской, а Богоматерь Одигитрию от Богоматери Умиление, но о Таинствах и обрядах Церкви имели представление самое смутное. По-моему и крещеным-то никто не был. Единственным предметом, имевшим отношение к христианству, было в нашей компании Евангелие от Иоанна – тонюсенькая брошюрка из тех, что западные миссионеры распространяли в богооставленной России. Принадлежало Евангелие, естественно… Комиссару.
ДОСЬЕ. Комиссаром у нас была тихая еврейская девочка Ира П. – дочка профессора, читавшего курс ядерной физики. Профессор был брутальной личностью: сплавлялся на байдарках, ходил на яхтах, занимался альпинизмом, о чем с удовольствием поминал на своих лекциях. Особенно запомнился рассказ, как они с будущим нобелевским лауреатом Полем Дираком попали в грозовую тучу на одной из тянь-шаньских вершин. Дочка его никакой склонности к экзотическим видам спорта не проявляла. Она просто была верной подружкой, правой рукой и даже ушами нашей Командирши. Нет, не наушницей, а именно ушами, так как та – напоминаю – плохо слышала и на все важные переговоры привыкла являться вместе с Комиссаром. Когда я встречался с Ирой последний раз, ее передергивало, когда при ней произносили фамилию «Солженицын», а в середине семидесятых это случалось часто в связи с высылкой автора «Архипелага ГУЛАГ». Говорить следовало — Великий Человек. И никак иначе.
О кроватях и прочих спальных принадлежностях для отряда позаботились прибывшие за пару дней до основного контингента квартирьеры. – Все это добро они получили от руководства колонии. Так что нам оставалось только бросить на облюбованные места рюкзаки и отправиться изучать окрестности.
Большой промышленный город Ярославль протянулся вдоль Волги километров на 60. Но в районе Толги он делал плавную излучину и обтекал стороной идеологически неблагополучное место, оставляя в стороне совершенно не тронутый цивилизацией кусок заливных лугов и какой-то невнятной растительности. Если не обращать внимания на высившиеся по горизонту новостройки, казалось, что ты находишься в какой-то тихой среднерусской деревушке, куда и дороги-то порядочной нет. Ее и не было. Зато был дебаркадер, к которому приставали речные трамвайчики. Большие туристические теплоходы проходили мимо, ибо демонстрировать полуразрушенные святыни в сочетании со свежей колючей проволокой было как-то неправильно. Да и индивидуальных паломников за все время пребывания в монастыре я не наблюдал, хотя, может быть, они искусно маскировались среди местного люда.
А, надо сказать, Толга была довольно густо заселена. Люди жили и в каменных постройках и в многочисленных избах и избушках, окруженных огородами и яблоневыми садами. В подклете Введенского собора (или остатках колокольни?) имелся даже магазин, или, скорее, лавка, работавшая по какому-то причудливому для постороннего взгляда расписанию. Трудилось местное население частью в городе, но, в основном, в колонии: поварами, охранниками, мастерами на производстве. Утомленные ежедневным общением с ребятами, хоть и молодыми, но имевшими за плечами много всякого, а потому требовавшими постоянной бдительности, оказавшись дома – за высокой монастырской стеной, аборигены расслаблялись: играли в домино, умеренно, без особого буйства потребляли алкоголь, смотрели телевизор – там и сям в глубинах темных аллей мерцали голубые огоньки.
В знаменитой кедровой роще, выращенной из орешков того самого кедра, на котором обнаружилась чудотворная икона, располагались волейбольная площадка и высохший пруд. В описываемое время роща стала как-то сильно чахнуть и обеспокоенные жители этих мест неоднократно пригоняли пожарную машину, чтобы наполнить пруд. Однако вода уходила безвозвратно. Объяснение этому факту давалось самое простое и обычное для всех исторических мест: под Волгой есть подземный ход на ту сторону, ход прохудился, туда вода и уходит.
На нынешних фотографиях между монастырской стеной и урезом воды я вижу довольно пышные купы деревьев. В наши времена их не было. Ну да за 40 с гаком лет могли вырасти и леса. На берегу у дебаркадера в погожие дни резвилась толгская молодежь школьного возраста. Ребята постарше уплывали от своих берегов. В сущности, монастырь был обычным, за некоторыми исключениями, поселком. Он и на картах обозначался, как поселок Толга. Поэтому и население здесь было самое разнообразное: от младенцев до стариков. Молодежь самого шустрого – пионерского возраста – лихо ныряла с дебаркадера, а самые крутые, даже с его крыши. Признаюсь, и я тряхнул стариной.
В той стороне, где располагалась колония, побережье было пустынным, хотя там и возвышались намытые земснарядами горы песка, располагавшие к более или менее комфортному пляжному времяпрепровождению. Однако нормальные партикулярные люди туда ходить избегали. Нормальные люди, но не наши склонные к экстремальному поведению девушки. – Еще в Суздале две из них умудрились в первый же вечер сверзиться с колокольни. – К счастью, без тяжелых последствий.
Вот и теперь, в первые часы по приезде, я, в компании своего привычного байронизма разгуливал по берегу пустынных вод и вдруг разглядел в стороне колонии две пестрые фигурки. — По случаю приезда все девушки, за исключением Командирши, оделись в наряды, свойственные их полу. Завидев меня, девушки призывно замахали руками. Оставив мизантропию до лучших времен, я потопал к ним. И обнаружил их в компании очень симпатичного юного зэка.
Напоминаю, что колония в Толге была для малолеток, и заключенные здесь содержались до 18 лет. Потом, если срок еще не кончился, их переводили во взрослую колонию, где их ожидала участь самая незавидная. Но «в целях производственной необходимости» их могли задержать в привычном заведении и подольше. Так что некоторые, особо удачливые узники, были примерно нашего возраста. Поскольку срок их все равно приближался к концу, а, значит, бежать не было никакого резона, некоторых расконвоировали, то есть выпускали из-за колючей проволоки для тех или иных необходимых колонии работ: возить воду и продукты и т.п.
С одним из таких ударников социалистического труда и встретились наши боевые соратницы. Встретились и завели по их понятиям светскую беседу. Мол, откуда, да кто таков, да за что сидишь? (Позднее им объяснили, что вели они себя по другим ПОНЯТИЯМ неприлично). Однако юноша был сама любезность и с очаровательной улыбкой сообщил свою статью. «А что это?» — продолжали любопытствовать барышни. – «Разбой с тяжкими телесными последствиями». Тут только до девушек стало доходить, что за забором с колючей проволокой находится отнюдь не пансион для благородных девиц, так что, хотя новый знакомец был отменно вежлив, мое появление они восприняли с заметным облегчением. Я подошел, поздоровался и сурово сказал девам, что кухня срочно нуждается в их услугах. И хотя отношения с кухней у наших боевых подруг были «натянутые», они все-таки радостно попрыгали за мной в сторону монастырских ворот.
Кухня (она же столовая) располагалась в нижнем этаже Крестовоздвиженской церкви. Как я понимаю, помещение это с низкими каменными сводами испокон веку служило братской трапезной. В одной ее части находились чугунные плиты, топившиеся дровами, другую занимал длинный монументальный стол, окруженный столь же могучими лавками. О том, что наверху находится церковь, мы и не подозревали. Позднее мне довелось красить крышу этого здания, но и наверху не было заметно никаких следов купола шатра или барабана. Трапезная стала местом наших ежевечерних бдений. Те, кто не валялся на кроватях с книжками в руках, не совершал романтические ночные прогулки или заплывы через Волгу, обычно сидели за столом, играли в покер на спички, преферанс или «крокодил».
ДОСЬЕ. Поясню правила этой народной студенческой игры. – Игроки делятся на две команды. Одна из них загадывает какую-либо недлинную фразу, желательно не бессмысленную и без имен собственных. Приветствуются не слишком затасканные цитаты из классики. Загаданная фраза сообщается выбранному игроку из команды-соперницы, а он должен жестами показать ее своим коллегам. Существуют специальные жесты: близко по смыслу, близко по звучанию, склонять, спрягать и т.п. На моей памяти чемпионами по неугадыванию были «Замшелый мрамор царственных могил» (В.Шекспир) и «Без надобности носимый набрюшник вреден» (К.Прутков). Старые мы пни, но иногда до сих пор играем в «крокодила». И искренне веселимся.
Коли уж речь зашла о трапезной, то самое здесь время мне покаяться. — Старинные парусообразные своды с обвалившейся местами штукатуркой – современной, а не исторической – неумолимо влекли меня оставить на них свой след. И я оставил, изобразив несколько абстрактно-одухотворенных ликов. Но лики-то ладно, так я к тому же изобразил на потолке пару обнаженных дев. Нет, не порнуху какую-то, девы тоже были вполне метафизические, но все равно по сию пору мне неудобно, что я сублимировал бурлящую внутри половую энергию в столь неподобающем месте. Надеюсь, Там, Где Надо, поймут, что это было никак не сознательное святотатство, а просто гормональная дурь.
Я несколько опередил события, а чтобы воссоздать картину самых первоначальных впечатлений от Толги, должен сказать, что когда ночная мгла опустилась на монастырь, из-за северной ограды вдруг грянула строевая песня. Позднее, попав в армию, я узнал, что церемониал этот называется «вечерняя прогулка», только гуляют на ней строем, в ногу и с песней. Трудно передать впечатление от слов «Не плачь девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди», исполняемых несколькими сотнями молодых глоток с такой непередаваемой интонацией, что становилось жалко «девчонку», к которой вскорости вернется эдакий «солдат». И совсем уж жутко становилось от песни «Когда поют солдаты, спокойно дети спят». Толгские дети под нее и засыпали. Что поделать, — более подходящая в данной ситуации «Мурка» была не столь распространена, как в наши дни.
Теперь, когда место действия беглыми штрихами обрисовано, можно поговорить и о самом действии, то есть о работе: все-таки в Толгу мы приехали не только развлекаться.
До нас в монастыре работала бригада профессиональных каменщиков-реставраторов. Нынче же они были переведены куда-то в более актуальное место, кажется в Ростов, поскольку превращение Толги в туристический рай терялось в отдаленном будущем, если вообще представлялось делом сбыточным. – Все-таки Министерство внутренних дел пользовалось в Советском Союзе куда большим уважением, чем Министерство культуры. – С годами, с изменением государственного строя и покроя начальственных пиджаков, впрочем, ничего не изменилось.
Однако реставраторы оставили нам рабочий задел и образец того, что следует делать дальше. Внутри северной стены монастыря были поставлены леса и деревянные каркасы арок требующих восстановления. Кирпичные арки давным-давно были разобраны местным населением для более важных нужд: на фундаменты своих жилищ, на печки и т.д. Жители окрестных деревень принялись было крушить стены и снаружи, но кто-то их окоротил. Так что внешний вид монастырь более-менее сохранил. Внутри же…
Кроме того мы должны были вырыть вдоль стен глубокие канавы для укрепления фундамента. Имелись и другие мелкие работы.
Девушки наши, получившие в семье тонкое и деликатное воспитание, все как одна рвались к тяжелым и грубым работам: наверное, так отзывались народнические замашки их дедушек и бабушек. Поэтому поварить никто не хотел и на кухне они сменялись по очереди. Впрочем, кулинарные умения их распространялись в основном на каши. Ну что ж – здоровая и сытная еда, как утверждают диетологи. Мяса мне вдоволь удалость поесть однажды, когда по какой-то хозяйственной надобности я был послан к начальству колонии. Впечатления от лязгающих впереди и сзади железных решеток сильны сами по себе, но желудок запомнил только вкус мяса. Начальство утверждало, что это обычный зэковский порцион, и я склонен верить, ибо все заключенные вовсе не выглядели изможденными.
Итак, перед нами стояла проблема: какие, собственно, работы может выполнять на стройке прекрасная половина человечества? Не предложишь ведь им долбить ломом траншеи в каменистой почве? Или вручную месить бетон? Или таскать на леса ведра с раствором и кирпичи? Оставалось одно: записать их всех в каменщицы, тем более что образы этих румяных белозубых дев широко представлены на картинах Дейнеки и Пименова. Нельзя сказать, что девушки наши полностью соответствовали идеалам первых пятилеток, но точно так же не были они очень уж эфирными созданиями. За исключением каменщицы Любы, 38-ми килограммов весом.
Обычные каменщики одной рукой зачерпывают мастерком раствор и кидают его на предыдущую кладку, а другой кладут сверху кирпич. Но дело в том, что предки наши не знали советских ГОСТов (государственных стандартов) и делали кирпич весом почти в два раза больше – около восьми килограммов – в реставрации именно такие кирпичи и используются. Не всякая будущая специалистка в квантовой механике или романской филологии могла удержать такой вес пальцами одной руки, а уж у Любы рабочий процесс превращался просто в завораживающее зрелище. Двумя руками она поднимала мастерок с раствором, намазывала раствор. Потом откладывала мастерок и двумя же руками брала кирпич и долго пристраивала его на место. К счастью, у Любы был бойфренд Вова. (Употребляю здесь это новомодное слово, ибо не знаю, как назвать эту должность по-старинному. Друг, ухажер, кавалер? Все не то.) Вова был юношей корпулентным, очкастым и каким-то… недопеченным. Вместе они выглядели довольно забавной парой, наглядно демонстрирующей диалектический тезис о единстве и борьбе противоположностей. Вова таскал за Любой ведро с раствором, подавал кирпичи и, кажется, даже смахивал пот со лба. В настоящем стройотряде эта парочка вряд ли сошла бы за полноценную боевую единицу, но мы твердо придерживались принципа «от каждого по способностям». К тому же и смотреть на них было приятно.
Не знаю почему, но наши «трудные подростки» — Коля и Сережа – избрали меня вожаком своей стаи и старательно избегали выполнять указания, исходивие от кого-либо другого. Я их жалел, не перетруждал – все-таки они действительно были подростки, — но за трудовой занятостью следил.
ДОСЬЕ. Сережа отличался длинным ростом, исключительной худобой и наличием гитары. Время от времени он извлекал из нее и из себя какие-то мелодические звуки, но поклонников кроме меня не снискал. Я же попросил показать все известные ему три аккорда и сам принялся заниматься мелодекламацией, употребляя эти аккорды к месту и не к месту. Надеюсь, боевые товарищи простили мне эти упражнения.
Колю, происходившего из более чем благополучной семьи, можно было-таки назвать «трудным» подростком, но, скорее, «странным». Под большим секретом он признался мне, что несколько раз вскрывал себе вены, но не по каким-либо внешним причинам, а просто из интереса, сколько крови он без страха может спустить в заранее приготовленную баночку. Было у него и другое, не менее странное хобби: во всяком новом месте он старался провести ночь на кладбище. Пытался он приобщить к этому занятию и меня, но не преуспел.
По дошедшим до меня позднее слухам, Коля по окончании школы поступил на физфак, бросил всякие глупости и даже стал командиром одного из настоящих северных стройотрядов. Работали они в такой карельской глуши, что даже продукты им доставляли вертолетом. Однажды продукты кончились, а вертолет не прилетел. Народ поработал день-другой и начал роптать. Тогда Коля взял огромный рюкзак и в одиночку двинулся по тайге к ближайшему населенному пункту. Продукты он достал, но на обратном пути заблудился. Нашли его вертолетом дня через три совсем обессилевшего и почти заеденного комарами… Так и хочется добавить: вот какие сильные личности ковались в нашем коллективе!
Однажды за полночь, когда наша церковь-общежитие похрапывала, посапывала и посвистывала на разные лады, я был разбужен моими лихими акселератами. Они шикали, прикладывали пальцы к губам и жестами куда-то манили. Оказалось в сторону Свято-Введенского собора.
Свято-Введенский собор был главным и лучше всего сохранившимся строением монастыря. Даже многие изразцы, украшавшие его стены, стояли на своих местах. Когда мы впервые попали в храм, то обнаружили, что прекрасно уцелела и внутренняя его роспись. Только фрески нижнего ряда были почти смыты, но и тут чувствовалась не злая человеческая воля – она бы нашла способ уничтожить всё подчистую, — а действие какой-то непонятной водной стихии. Да еще непонятной была дыра, пробитая в полу. Нам собор служил складом для инструментов и цемента – вещества очень полезного в хозяйстве. Оставлять все это на виду, значило бы искушать наших соседей. Поэтому собор запирался на большой навесной замок, один ключ от которого хранился у Командирши, а другой свободно висел на гвоздике в нашей Никольской церкви. В принципе, любой из нас мог взять его в случае надобности. Вот трудные подростки его и взяли. Но зачем это надо было делать ночью?
На все мои вопросы малолетние бандиты помалкивали и меня призывали к молчанию. Мол, сейчас сам все увидишь. Мы поднялись, открыли замок и оказались внутри храма.
Храмы, заполненные народом, сияющие сотнями свечей, лампад и мерцающих риз, должны производить впечатление на прихожан, создавая особый молитвенный настрой. Но храмы пустые, разграбленные, сохранившие только стены – скелет, остов, голую идею Церкви производят впечатление, может быть, и большее. Лунный свет лился в окна и медленно скользил по фрескам. В темноте основного купола смутно виднелся образ Спаса. Он, казалось, присматривался и вопрошал: А кто это там пожаловал? Некоторое время длилась довольно тягостная тишина, а потом в высоте раздался тяжелый железный удар, будто бы пушкинский Командор оставил наскучившую Испанию и решил прогуляться по ярославским крышам.
Сердце мое ухнуло в пятки, оттуда подскочило к горлу. Малолетние бандиты вцепились в меня с обеих сторон. Чувствовалось, что и они испытывают нечто похожее, хотя очевидно было, что они-то оказались в ночном соборе не в первый раз. А шаги на крыше продолжились: то они были одиночными, а то следовали сериями, словно кто-то искал, высматривал в крыше прореху, чтобы…
Ребята мы были несуеверные и любое явление пытались объяснять рациональными причинами, но тут общая обстановка словно парализовала в нас способность к рациональному мышлению. Мы постояли еще немного, послушали шаги, понаслаждались своим первобытным страхом. – Страх тоже способен доставлять наслаждение, о чем прекрасно осведомлены создатели и потребители фильмов ужасов. Определив через некоторое время, что не являемся совсем уж трусами, ибо не убежали сразу, мы молча разбрелись по кроватям.
Рациональное же объяснение ночного кошмара нашлось буквально следующим утром. – Я пошел в собор за очередным мешком цемента, но не сразу взвалил его на плечо, а на минутку встал на вчерашнем месте и прислушался. И услышал топанье по крыше… голубей. Звуки были все те же, только более частые и бодрые. Но при дневном свете и в сопровождении голосов, доносившихся снаружи, они воспринимались совершенно иначе.
Акселератов мое открытие разочаровало, хотя они вынуждены были с ним согласиться. Однако через пару дней с таинственным видом они снова стали исчезать по вечерам. Оказалось, что они занимаются вполне естественным в их возрасте делом – ищут клад. Я и сам не так уж давно отдавал дань этому увлекательному занятию. Старшего товарища и наставника они решили привлечь на последней стадии мероприятия: когда попугай на плече одноногого Сильвера заорет «Пиастры!», а кирка стукнет об окованную железом крышку сундука с сокровищами.
В течение нескольких вечеров мои юные друзья, силы, неизрасходованные на общественно полезных работах, тратили на то, чтобы методически простукать стены собора. В самом соборе они успеха не имели и тогда решили спуститься в подклет. – Я уже говорил, что в полу имелось изрядное отверстие. Они раздобыли веревку, и, как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет». – В одном месте пол под ударом лома отозвался гулкой пустотой! Ребятишки принялись долбить и еще за несколько вечеров прорубили в полуметровой кладке изрядную дыру, в конце которой зияло небольшое отверстие, уходившее в подземную тьму.
На сей раз в назначенный час мы вошли в собор совершенно безбоязненно, не обращая внимания на топот наглых голубей. Кладоискатели снарядились основательно: кроме лома и веревки у них имелись пара свечей и фонарик. – Вообще «трудные подростки» лучше всех адаптировались к монастырской жизни и уже завели кучу приятелей-сверстников. Стоя перед отверстием, выдолбленном акселератами, я, конечно, попенял им, что мы все-таки реставраторы, а не какие-нибудь вандалы и гунны, но… блажен тот, кто не знал никаких страстей.
В сущности, нам оставалось немного поработать, чтобы в дырку можно было просунуться не очень толстому индивиду. Однако это оказалось делом нелегким: глубины подвала мы не знали, не было у нас и другой веревки, кроме той, по которой мы спустились в подклет. К тому же, было еще довольно светло, и под окнами подклета бродил кругами какой-то пьяненький абориген, все пытавшийся затянуть песню «Вы не вейтеся, черные кудри, над седою моей головой». Но после первой же строчки он сбивался и начинал этот сюрреализм сначала.
Когда он угомонился, уже совсем стемнело. Пришлось зажигать свечу и ставить ее на полу, так, чтобы свет ее не был виден из окон. После получаса работы мы немного расширили отверстие: уж очень неудобно было долбить, стоя на коленях и держа лом почти за самый кончик – очень мы боялись его уронить. Мы подолбили еще немного, но все равно проем был еще маловат, чтобы туда пролез человек нормального сложения. Нормального… Однако у нас имелся акселерат Сережа. После недолгого совещания его и решено было отправить на разведку, но не совсем на дно, а используя в качестве примитивного «беспилотника». Мы положили его на живот, привязали на шею фонарик и, держа за ноги, стали спускать вниз. Вот исчезла его голова, плечи, вот он уже погрузился по пояс – по всем расчетам он уже должен был видеть россыпи пиастров и дублонов… И тут корпус нашего беспилотника начал лихорадочно дергаться. Боясь его потерять, мы покрепче вцепились в тощие щиколотки и начали медленный подъем. При этом веревочка фонарика зацепилась за выступ кладки и оборвалась. Фонарик полетел вниз, разбился и погас. Судя по звуку, не так уж там было и глубоко. Меж тем, извлеченный наружу разведчик сидел на краю ямы, в которой только что побывал, и мелко трясся. Был он бледен, хотя, учитывая его предыдущую позу, кровь вроде бы должна была прилить к голове. «Г-г-гроб!» — было его первое слово. Оказалось, единственным, что он успел увидеть, был полуразвалившийся гроб, из которого торчали… Но довольно натурализма.
Вообще-то мы должны были знать, что по периметру собора принято было хоронить настоятелей и особо знатных прихожан. Должны были, но попутал лукавый. Следующим вечером мы притащили в подклет пару ведер раствора и по возможности уничтожили следы нашего вандализма. Сверху еще и досок накидали. А акселераты пообещали впредь оставить собор в покое и употреблять излишки энергии где-нибудь в другом месте.
***
С первых же дней работы в Толге к нашему отряду прибился некий странный персонаж. – Назову его Иван Иванович. Был он вроде бы председателем местной ячейки ВООПИКа, но власти над нами не имел, и никакой помощи от него ждать тоже не приходилось. Иван Иванович принадлежал к породе профессиональных номенклатурных работников, то есть никакой определенной профессией не владел, но все время чем-нибудь руководил. Не имея особых способностей, он не продвинулся высоко по номенклатурной лестнице, но и опуститься до уровня обыкновенного труженика не мог. После ряда сокрушительных успехов в руководстве колхозами, складами, овощебазами и домами культуры начальство задвинуло нашего героя на должность, где тот не мог принести особого вреда, ибо почти весь возможный вред здесь уже был сделан: Ивана Ивановича назначили охранять памятники архитектуры.
Кстати, свою номенклатурную карьеру юный комсомолец Ваня – а был он местным уроженцем – начал со сбрасывания крестов и куполов в окрестных церквах. – Иван Иванович рассказывал все это без малейшего смущения: такова была структура времени, что требовалось рушить церкви – он и рушил; пришла пора их охранять – он на страже – не дал, например, разобрать монастырскую стену.
В сущности, в основном от него мы и узнавали историю монастыря, правда, с большими лакунами. Узнали, например, что в тридцатые годы здесь была научно-испытательная лаборатория, моделировавшая процессы заполнения водохранилищ. – Вот почему собор наполнялся водой. (Водонапорной башней служила колокольня). Вот почему был смыт нижний ряд фресок: предчувствуя судьбу других фресок других монастырей, они как бы заранее побывали на дне маленького рукотворного моря.
Однажды Иван Иванович принес нам брошюру, посвященную Толгскому Свято-Введенскому монастырю. Издана она была в 1913-м году в честь паломничества государя императора по святым местам Государства Российского. Паломничество, в свою очередь, было посвящено 300-летию дома Романовых. Толгский монастырь принадлежал к монастырям 1-го класса, и никак не мог быть обойден вниманием августейшего семейства. В брошюре имелся и общий план монастыря, и план Свято-Введенского собора со всеми его захоронениями. Мы даже приблизительно обнаружили, чей прах был нами потревожен. Теперь это забылось, а врать не хочу. Задним умом понимаю, что надо было сделать выписки, скопировать рисунки, но… «мы ленивы и нелюбопытны». Совершу здесь, однако, бросок во времена совсем другие.
ДОСЬЕ. В 1991 году в журнале «Новый мир» были опубликованы «Воспоминания» известного православного писателя С. Фуделя. Он не был священником, но был христианином, не отделявшим свою судьбу от судьбы Церкви, за что и провел по тюрьмам, лагерям и ссылкам значительную часть жизни. Первые главы «Воспоминаний» проникнуты горечью за оскудение православной жизни на Руси, которое началось отнюдь не в 1917 году.
Примерно в то же время, что и император Николай Александрович, С. Фудель – тогда еще отрок – тоже совершал паломничество по монастырям со своим отцом – священником Бутырской тюрьмы И. Фуделем. Толгский монастырь произвел на него не самое благолепное впечатление. Он вспоминает, как поразило его то, что мантийные монахи во время обедни выходили перекурить на паперть и даже его угощали папиросами. Монастырская гостиница на летний сезон сдавалась под дачи. Монастырская прислуга готовила дачникам обеды, но на службах они появлялись только в охотку, а в основном катались на лодках, удили рыбу и устраивали пикники. Правда «пели монахи действительно хорошо, и нигде после я не слыхал такого пения этой молитвы («О всепетая Мати»), которая как будто старалась покрыть и наполнить духовную пустоту древнего монастыря».
Работа работой, но выходными мы, в отличие от настоящих «пламенных стройотрядов», не пренебрегали. Тратили мы их на путешествия по древним городам Ярославской земли: Ростову, Переславлю, Тутаеву. Последний, правда, оказался нареченным фамилией несчастного комсомольца, нечаянно погибшего во время Ярославского мятежа, но все равно удивительно вписывался в ряд своих именитых соседей.
Иван Иванович не одобрял наши маршруты: «Ну что вы все по церквам, да по церквам? Съездили бы лучше в Рыбинск. Центр авиационного моторостроения! Рыбинская ГЭС! Настоящий пролетарский город!» Нам такая реклама была не в новинку. – Ленинград тоже был не последним в ряду пролетарских городов. Так мы тогда в Рыбинск и не попали. Зато облазали Ярославль, не пропуская ни одного открытого для обозрения храма и пытаясь проникнуть в закрытые.
В Ярославле я приобрел пятитомный «Курс русской истории» В.О.Ключевского, изданный в1958-м году тиражом 75 тыс. экземпляров. Причем, приобрел не в книжном магазине, а в лавке уцененных товаров, где среди всякой уцененной рухляди прямо на полу валялись и никому ненужные книги: не только Ключевский и Соловьев, но и много другого интересного. Однако рюкзак мой был не безразмерным, и мне еще предстояло с ним довольно длительное путешествие по Руси.
Когда началась Перестройка, среди многих других – разумных и безумных воплей – звучали и такие: Большевики лишили нас истории! Где общедоступные сочинения Карамзина, Ключевского, Соловьева, Платонова?!
Где, где? – В Караганде! Внимая этим воплям внезапно пробудившегося национального самосознания, власти чуть ли не миллионными тиражами переиздали вышеперечисленных авторов. И многих других тоже. Однако, что-то не заметно, чтобы круг знатоков древности при этом расширился. Разве что в интерпретации академика Фоменко.
«Основал Москву не Долгорукий,
И даже не Лужков, что очень странно.
Основали Ром и Ремул – внуки
Японского кагана – Чингизхана.
Был такой Чингиз – каган японский.
Его граждане прозвали Брахмапутрой.
Он же – Александр Македонский,
Он же –Ярослав, и он же –Мудрый»… (Т.Шаов)
Кстати, по Фоменко город Ярославль – на самом деле Новгород.
***
В немногих источниках о послереволюционной истории Толгского монастыря встречается и утверждение, что большевики снесли монастырское кладбище, а надгробия использовали для нужд строительства. Кладбища в монастыре я действительно не помню, за исключением часовни над могилой монахов, истребленных поляками в 1612 году. Возможно, оно вообще находилось за оградой, ибо за шесть веков площадь его должна была стать изрядной. Расскажу тут об одном открытии, сделанном мною совместно с Сашей Б. Похоже именно оно и послужило поводом для подобных утверждений. Расчищая фундамент около северной стены монастыря, мы обнаружили под стеной большую белокаменную плиту. Белый камень не очень характерен для наших мест, а эта плита, точнее, видимая ее часть, была покрыта узорами. Нечто похожее мы видели на могилах Годуновых в Троице-Сергиевой лавре.
О своей находке мы доложили наверх, реставрационному начальству. Начальство приехало, осмотрело камень и попросило по возможности аккуратно извлечь его целиком, — далее в фундаменте виднелись и другие белокаменные фрагменты, но не очень большого размера. Закавыка заключалась в том, что частью плита находилась на нашей территории, а частью – на территории колонии, точнее в коридоре между рядами колючей проволоки, где прогуливались сторожевые собачки.
После непродолжительных переговоров с начальством колонии, то пообещало, что на следующий день с такого-то по такой-то час двое тружеников с лопатами и ломом будут допущены на нейтральную полосу, а собачки, соответственно, заперты. Тружениками этими были мы с Сашей, как наиболее приспособленные к переноске тяжестей.
В оговоренное время солдатики впустили нас в охраняемую полосу, заперли и ушли. Диспозиция получилась такая: с одной стороны самая высокая стена монастыря с башней, позади крепкий деревянный забор с колючкой поверху, впереди еще два ряда колючей проволоки на столбах. За ними виднеется бывшая монастырская гостиница, где на балконе сидят юные зэки с гитарой и с интересом наблюдают за происходящим на нейтралке. В конце нейтралки, метрах в двухстах, вольер с собаками. Посредине два героя труда в кедах и плавках. С лопатами и ломом, естественно.
Принялись мы за работу, и пошла она очень даже споро, как вдруг со стороны вольера раздались истошные крики. Мы обернулись и увидели, что, знающие службу гораздо лучше хозяев, овчарки вырвались на свободу и мчатся в нашу сторону. Причем, бегут совершенно молча, а это не к добру. За ними бегут воины-кинологи, но бегут как-то вяловато. Я было схватил лопату наперевес, чтобы отдать жизнь как можно дороже, но, взглянув на напарника, обнаружил того качающимся на вершине столба: переступая между колючками и держась за столб, по проволоке можно было взобраться. Я и взобрался. Точнее взлетел. В результате образовалась такая вот картина маслом: На столбах, вцепившись в них, как обезьяньи детеныши в маму-обезьяну, качаются два почти голых почти физика – может быть, надежда отечественной науки. Внизу, разинув черные пасти и высунув сизые языки, прыгают две здоровенные овчарки, пытаясь достать пятки нарушителей режима. Зэки на балконе, отставив гитару, ржут и тычут в нас пальцами, радуясь неожиданному развлечению. А по некошеной траве нейтральной полосы с переливчатым матом трухают бравые караульные. Наконец солдатики до нас добежали, взяли своих питомцев на поводки и поволокли их назад. Только когда отдаленный мат затих, а двери вольера захлопнулись, мы спустились на землю-матушку. Наверное, этот миг был нам столь же сладостен, как первым космонавтам.
Плиту мы вытащили. Правда, при этом она разломалась пополам, что было и кстати: с целой мы бы не совладали. Надгробие, — а не было никакого сомнения, что это оно – было очень красиво: по периметру изящная резная рамка, а в центре крест и замысловатая славянская вязь, которую мы разобрать не могли.
Начальству наша находка тоже очень понравилась. Ее погрузили в грузовик и увезли. Больше о ее судьбе я ничего не знаю. Зато, в компенсацию наших страхов, за работу нам заплатили, как за археологические раскопки. Что тут еще можно добавить? – Возможно, данное надгробие, а, может быть, и множество других, лежало в основании стены с самого времени ее постройки. Я бы не дал голову на отсечение, что их нет и в фундаменте Свято-Введенского собора и других монастырских зданий. Никого не осуждая и ни на что не намекая, я просто хочу напомнить, что церковь Покрова на Нерли в 19-м веке не была разобрана на строительный камень только потому, что тамошнее церковное начальство не сошлось в цене с подрядчиком.
***
Может сложиться впечатление, что с местным населением мы почти не общались. Это не вполне так: мы перебрасывались парой слов о делах, о погоде, играли в волейбол, выслушивали совершенно правдивые легенды о подземном ходе под Волгой, о местных призраках и т.п. Акселераты приводили на наши посиделки пацанов и девчонок (все сидели как мышки), но более или менее регулярно на наших симпозиумах присутствовали лишь Иван Иванович и молодой человек по имени Алексей. Впервые привела его Командирша, имевшая счастливую способность легко сходиться с людьми любого класса и звания. У Алексея звание было – старший лейтенант внутренних войск, и служил он начальником отряда в колонии. А еще он являлся выпускником философского факультета МГУ и в Толге оказался по распределению. В СССР существовало определенное перепроизводство философов марксистско-ленинской школы: впору было бы их экспортировать, но и на международных рынках этот товар спросом не пользовался, вот и приходилось для доморощенных Плехановых и Каутских подыскивать места, где бы от них получалась хоть какая-то польза.
Алексей на посиделках рассказывал о быте и нравах колонии. Но рассказывал как-то скучно. Оно и понятно: то, что для нас было экзотикой, для него являлось повседневной обыденностью. «Обыденность зла». Однажды он всегдашним ровным тоном сообщил, что сегодня в соседнем отряде заключенные забили своего товарища молотками, которыми обычно обивают окалину с чугунных чушек. – Пацан пробовал бежать: он забрался в вагон, вывозивший готовую продукцию с завода, и попросил обложить его этими самыми чушками. Просьбу его охотно исполнили, но сторожевые собаки даже сквозь запах горелого металла учуяли человека. Если бы авантюра удалась, то пацан стал бы героем и навсегда вошел бы в анналы зэковского фольклора. Но неудача означала репрессии для всего отряда: лишение передач, писем, свиданий… Герой оказался изгоем. Бить должны были все, без всяких уклонений. Все и били.
После этого рассказа аудитория слушателей у Алексея поуменьшилась. Непривычно было общаться с человеком, у которого только что на глазах (ну не на глазах! но…) забили другого человека, а он по-прежнему оставался спокойным и уравновешенным. Алексей и сам почувствовал, что отношение к нему изменилось, и потихоньку отошел от нашей компании.
***
Август перешел за середину. Без всякого внимания остался праздник Иконы Толгской Божьей Матери. Последние мешки цемента и кубометры кирпича были израсходованы. Командирша взяла в охрану самого нашего внушительного мужчину – Славку-якута (борец самбо полутяжелого веса) и съездила за зарплатой. Зарплата оказалась неплохой – приблизительно средней по стране. Пора было устраивать отвальную. После отвальной пути наши должны были разойтись. Большая часть отряда отправлялась домой в Ленинград. Несколько человек разъезжались в другие места по личным надобностям. Человек 6-7 наиболее настырных (в том числе и я) отправлялись на теплоходе в Белозерск, где нас ждали друзья из Старой Ладоги. Вместе с ними мы собирались посетить Кириллово-Белозерский монастырь, полюбоваться фресками Дионисия в Ферапонтово, а затее из Вологды возвращаться в Ленинград к началу академического года.
Утром я проснулся рано. Над Волгой струился розовый туман. В последний раз сплавал до фарватера и обратно, собрал рюкзак, в котором главное место теперь принадлежало Ключевскому, и уехал в Ярославль. – Сбор отбывавших в Белозерск был объявлен на теплоходе.
Поднимаясь вверх по Волге, теплоход не мог миновать и наш родной монастырь. Берег напротив монастырских ворот был безлюден. Зато напротив колонии стояла баржа с бревнами. От колонии до берега, образуя широкий коридор, стояли конвойные с собаками и автоматами. Шла заготовка дров. Одни заключенные спихивали бревна с борта в воду, другие тащили их к берегу, третьи волокли к воротам колонии. Я помахал рукой, проплывавшим за бортом стенам и куполам…
Давно это было.
P.S. С тех пор в Толге я не бывал и, что там происходило после нашего отъезда, не знаю. Продолжалась ли вялотекущая реставрация? Или монастырь был оставлен на волю грядущих перемен? Во всяком случае, я обрадовался, когда в 1987 году узнал, что Толгский Свято-Введенский монастырь передан Русской Православной Церкви.
Мне нравятся действующие монастыри, как средоточие Веры и усилий, направленных на преодоление духовной энтропии.
Мне нравятся старые заброшенные монастыри. В них чувствуется прелесть увядания. Да, они умирают, но процесс их умирания так же естественен, как естественен процесс жизни, конца жизни.
Но нельзя монастыри превращать в туристическо-развлекательные центры.
В них нет жизни. Это – «гробы повапленные».
Будем же радоваться, что Толге выпала благая участь.
Вячеслав Корнев