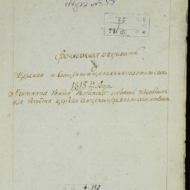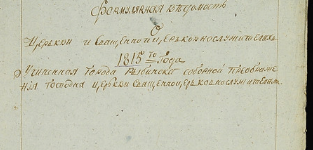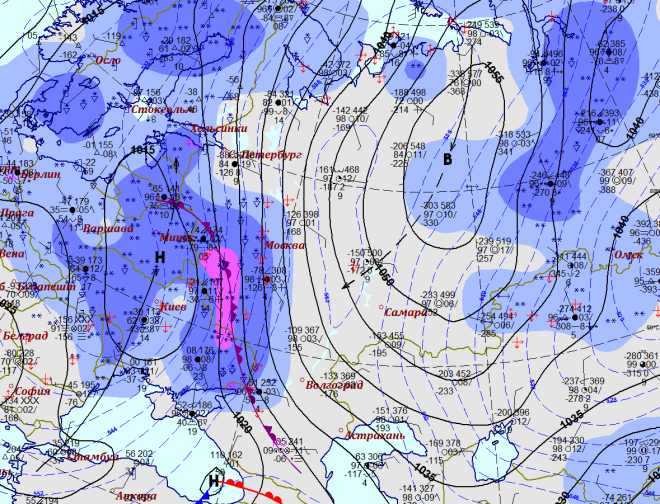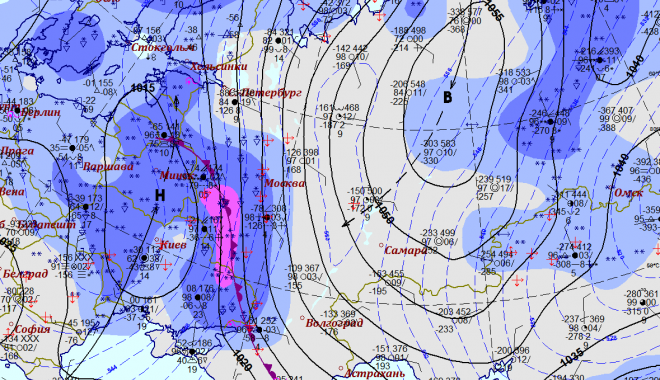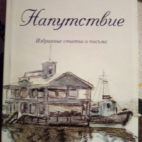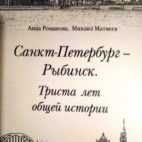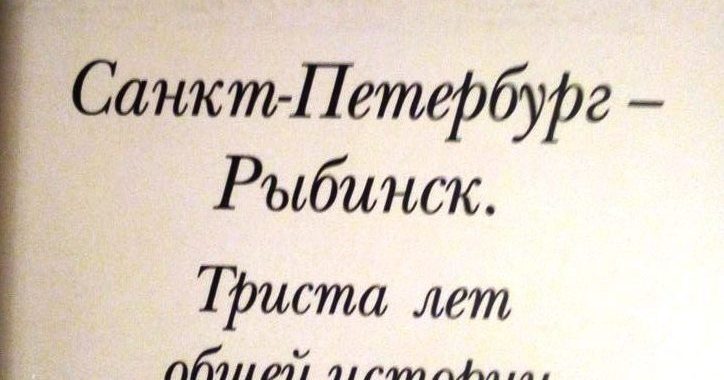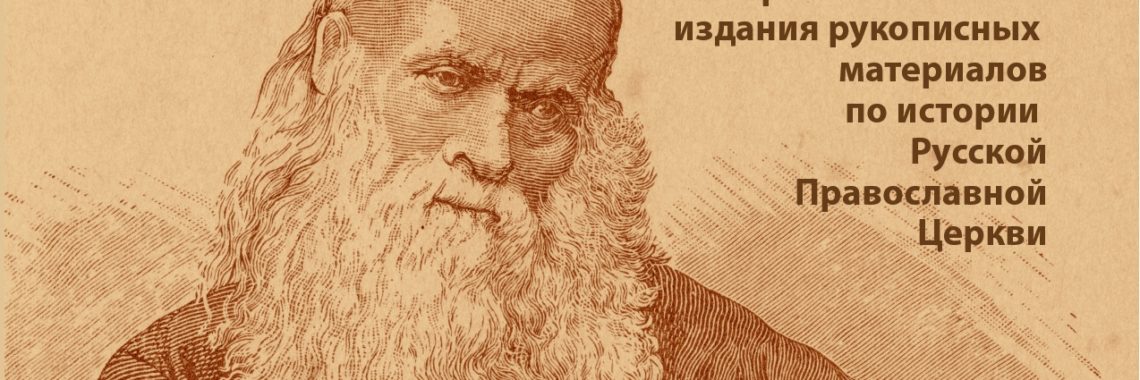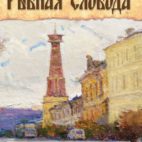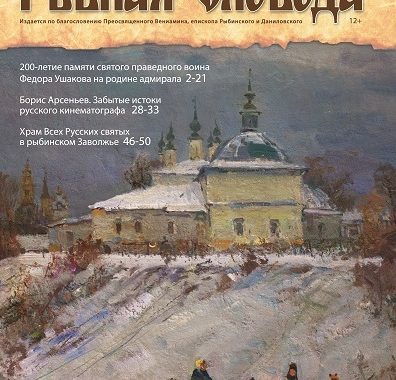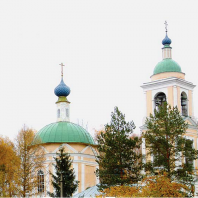Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров Рыбинского района, протоиерей Михаил Митрофанович Халюто, несомненно, принадлежал к «богатырскому сословию». Храм, в котором более двухсот лет не прекращалось молитвенное служение, и его священник, сорок лет служивший здесь, в 90-х годах были для рыбинцев своего рода символом возрождавшейся веры.
Отец Михаил был родом из Белоруссии. О том, сколько испытаний пришлось пережить семье его отца, Митрофана Халюты, в 30-е годы, он не раз рассказывал своим детям. Со временем по семейным преданиям старшая дочь батюшки Наталия составила целую книгу. Фрагмент этих воспоминаний мы предлагаем вниманию наших читателей.
Наталия Халюто.
…В 36-м году, после разгрома церквей, пришли громить Халютовский хутор. Уже одни они остались, все хутора вокруг опустели, всех согнали с насиженных мест.Приехали в конце лета на грузовиках, — полные кузова пьяных колхозников, — раскатали хату, сарай и увезли на посёлок. Место там выделили, как самым упорным, да и последним, — наихудшее: низина, сырость, топко, ноги тонут в воде. И вот, брёвна покидали прямо в эту воду и уехали. Стройся, как хочешь! И ещё глумились, расхваливая, мол, царское место получили: тут тебе и грядки, тут тебе и полив, тут тебе и бассейн помыться после работы.
Митрофан хмуро оглядел новое место с кучей раскиданных брёвен, плюнул на всё это в сердцах и ушёл. Не стал он строиться на посёлке. Даже из гордости, из оскорблённого самолюбия и из выросшей глухой ненависти к старым друзьям-предателям. Между ними началась затяжная война с переменным успехом. Но что же делать? На дворе — сентябрь, ночи холодные, дети маленькие, Пашутке только два годика исполнилось. Старшим — одному четыре, другому семь, велик ли возраст-то для таких испытаний? От разорённого гнезда осталась одна печь на полу посреди фундамента. Пол не тронули: устали, в подпитии были, да и завален он был разным хламом — тем, что остался
от разорённого дома. Вот, видно, и забыли про него, увезли только брёвна да стропила.
Расчистил кое-как Митрофан с помощью Христинки завалы вокруг печи, стопили её, слегка да и положили детей спать наверх под тёплые одеяла. Сами легли в сено, здесь же, на полу. Две ночи переночевали, а дальше как? Впереди — осенние дожди, холода, а там и зима не за горами. Бессердечные нелюди разорили родимое гнездо не раньше, как в начале осени, — когда и строиться-то в зиму уж не успеть,- чтобы оставить семью под открытым небом.
Митрофан решил копать землянку. Сначала сколотил на скорую руку будку, где спали он, Христинка и младшенькая Пашутка. Бабку Маланью оставили на печи с Аней, сделав над ними жалкое подобие крыши из соломы. А мальчишек укладывали спать в топлёную, немного подстывшую к вечеру печь. Печь была русская, рассчитанная на большую семью, добротная, с большим широким зёвом. В ней готовили пищу, в ней пекли пироги и куличи, в ней же и мылись один раз в месяц, как дети, так и взрослые. А теперь она послужила и спальней. Правда, недолго, до одного случая, пока мальчики чуть не задохнулись в ней. Видимо, печь слишком жарко натопили и недостаточно выстудили. Ребята залезли спать, как обычно, а ночь выпала что-то очень холодной, наверное, заморозки первые случились. И кто-то из взрослых,- кажется, бабка Маланья, — закрыл заслонку. Хорошо, что Мишутка проснулся; наверно, Ангел-хранитель сохранял или молитвы праведницы из Волковского рода. Проснулся от жары, от того, что дико болела голова, колотилось сердце, и был весь мокрый от пота. Огляделся, вокруг темнотища, ничего не понятно, где он, что случилось, почему так плохо? Нащупал рядом брата, стал его тормошить, чуть добудился. Ногами вышибли заслонку, стали вылезать. Миша пустил вперёд братика, так как тому было совсем плохо, и вдобавок он сильно испугался и плакал. А тот полез, зацепился за что-то и застрял: ни туда и ни сюда. Старший чувствует, что сейчас уж задохнётся, тогда руками упёрся в противоположную стенку, а ногами как пнёт мальца в мягкое место — тот и вылетел, порвал только что-то из верхней одежды. Таким образом и спаслись.
Прибежали к родителям в будку, все в саже, мокрые от пота, в ссадинах, в слезах. Тогда Христинка стала укладывать их в сено, накрыв сверху брезентом. Сено-то теперь уж было не нужно: скотину тоже всю «экспроприировали». Мальчишки спали там, пока отец делал землянку. Матрошин Устин тайком приходил помогать, боялся, чтоб кто не увидел и не донёс в сельсовет, хоронился даже от жены, поскольку со своим язычком могла бы и сболтнуть какой подруге по секрету.
Однажды Мишутка ночью проснулся — стоит на болоте по колено в воде, весь трясётся от холода. Прибежал к родителям, испуганный, плачет, жалуется:
«Тата, мама, меня кто-то ночью в болото занёс!»
Таким образом от всех переживаний у него начались приступы лунатизма. Когда это случилось и в другой раз, и в третий, Христинка поехала в Мосток за Днепр. А в Мостках проживала тогда одна раба Божия по имени Ефросинья. Замужняя, она уже много лет жила в чистоте, поскольку муж её был алкоголиком в последней стадии, жила суровой подвижнической жизнью в посте и молитвах, и Господь благословил её даром прозорливости и исцеления. Она лечила болезни молитвою, изгоняла злых духов, видела бесов, видела у людей, кто будет жить, а кто умрёт и когда.
Как-то, ещё до описываемых событий, Христинка была у неё в гостях вместе с маленьким Мишаней. В это время пришёл пьяница муж Ефросиньи вместе с двумя собутыльниками, все в подпитии. Они расселись в большой горнице, муж велел Ефросинье принести им закуски, достал самогону, и пошёл дым коромыслом. Ефросинья затворила туда двери, но и из-за плотно прижатых дверных створок доносился мат, грубый хохот и резкий запах махорки. После их пьянки, когда они ушли, Ефросинья собрала все остатки пищи и выкинула на двор собаке. Христинка удивилась, так как были не те времена, чтобы кусками разбрасываться:
«Ай! Что вы, тётечка, там же столько добра!» Та живо обернулась и истово перекрестилась. «Храни Бог, Хрыстиночка, храни Бог! Ты бы видела, как бесы скачут и толкутся по этой пище… Не-не, Хрыстиночка, это теперь отрава лютая!..»
Ефросинья тогда внимательно выслушала её рассказ, как Мишутка заболел, пошла в соседнюю комнату, взяла водичку пятничную святой Параскевы, помолилась перед иконами вместе с Христинкой, затем отдала эту воду и велела поить три раза в день и неожиданно для мальца сбрызгивать. С той поры у него всё и прошло.
Тем временем Митрофан выкопал землянку, выложил её изнутри пластём (расщеплённые вдоль небольшие брёвна), вывел крышу, закидал землей и покрыл дёрном, повесил двери, застеклил два окна, и по первому снегу семья переселилась в новое жилище. Печь сложили, разобрав старую, когда снег лёг уже в зиму. Землянка вышла небольшая, примерно метров четыре на восемь. В центре (потолка не было, сразу — крыша) высота доходила до трёх метров. Дверь сначала открывалась наружу, однако ошибочность такого положения дала себя знать сразу же. Зима выдалась очень снежная. Снег валил и валил, поэтому вход у двери приходилось расчищать по нескольку раз в день. Но однажды началась такая пурга и холод, что на улицу не высунешься, тут же выстуживало хату, да и ветер сбивал с ног. А назавтра дверь не открылась: землянку замело по крышу.
Целое утро Митрофан расшатывал дверь туда-сюда, пока не освободил чуть-чуть пространства, куда смог пролезть только старшенький с небольшой лопатой. Вот он немного откопал снег, частью на улицу, которая светилась высоко над головою, частью — в дом. А затем уж Митрофан вылез и доделал начатое. В снегу были проложены настоящие траншеи к туалету, к болоту в сторону шляха. Болото замёрзло, и в копани ежедневно утром и вечером приходилось разбивать лёд ломом, чтобы брать воду. Со временем наверху траншеи тоже завеяло, и дети бегали в туалет уже по снежному туннелю.
После раскулачивания Халюты стали последними бедняками, ограблены были дочиста. Валенки и те — одни на всех, только у отца были свои. Поэтому в уборную бегали босиком. Бежишь быстро-быстро, чтоб не успеть застыть. И там не засидишься: пятки ко льду примерзают.
Зато в землянке тепло, уютно. Земляной пол для тепла толстым слоем соломы выстлан, за печью кричит сверчок, на печи бабка Маланья покряхтывает, больные косточки греет. Уж теперь она не хозяйка, смирилась перед невесткою, из-под её руки смотрит, помогает готовить и убираться — вот и все теперь её дела. Отец корзину плетёт на кухонном столе либо лапти, Христинка при тусклом свете лучины пряжу сучит и под мерное жужжание колеса тихо напевает псальмы или древние сказы, а дети, затаив дыхание, сидят вокруг и молча слушают. И такой мир, такой покой дышит в этом убогом жилище, закопанном в землю и погребённом в глубоких сугробах белорусских снегов!..
Возможно, тяготы жизни научили Митрофана и Христинку отметать всю наносную шелуху в отношениях, чтобы оставалось только главное. А главное теперь стало — как бы выжить, и деточек не потерять в этой бешеной круговерти, и душу свою не погубить, не продаться за чечевичную похлёбку. Поэтому вечерами усердно молились перед иконами всей семьёй, усердно били поклоны, прося Богородицу Заступницу сохранить, покрыть, защитить. А наверху, над утонувшей в снегу землянкой ревела — бесновалась вьюга, занося остатки крыши, так что над снежной круговертью торчала уже одна только труба.
Ночами приходили волки греться, усаживались на трубу и протяжно выли, с переливами и руладами. Затапливая печь часов в пять утра, Христинка наблюдала: если дым повалил в хату, значит, ночной гость на трубе греется. Тогда брала кочергу на длинной ручке да прямо через дымоход ему в заднее место как пнёт! Волк тявкнет, с трубы скатится да бежать.
Метрах в пятистах от хутора проходила накатанная санная дорога, по которой люди из-за Днепра ходили в город. Голодно было. С хлебом было плохо. В магазинах люди с ночи занимали очередь, шли за тридцать километров пешком, на скопленные деньги в разных магазинах набирали буханок пятнадцать-двадцать, на несколько месяцев крупы, соли. И вот, бывало, на обратном пути припозднятся, так заходили, просились на ночлег. Христинка никогда не отказывала, и таким образом появилось много знакомых из заднепровских деревень.
Шли через Белоруссию и странники, и богомольцы в Почаевскую или Киево-Печерскую Лавру и тоже, бывало, забредали на огонёк. Это были, пожалуй, самые интересные и потому самые желанные гости, поскольку люди эти являлись как бы кладезями самых разных новостей, собранных со всей страны.
Сидят, бывало, страннички вкруг стола, степенно вкушают пищу, степенно разговаривают с родителями. Заведут разговоры про антихриста, как он придёт, воду будет продавать, а кто не поклонится ему, того уморит голодом без пищи и питья. А дети заберутся все на печь, спрячутся и через занавески наблюдают за каликами перехожими, слушают их рассказы, затаив дыхание.
Мишутка слушает и думает про себя: «Да я убегу в лес и из любой лужи напьюсь! И никакого антихриста не спрошу. А поесть? В лесу, вон, ягод полно, капустка заячья, черемша, сныть! А зимой силки поставлю, птиц буду ловить, зайцев…» Обсудив всё основательно сам с собою, Мишутка успокаивался: нет, не совладать с ним антихристу! Это городские ничего не знают, а уж деревенские имеют понятие о том, как выживать!
Удивительные были лица у этих странников! Выражение тихое, серьёзное, тут и скромность, и открытость, и душевная незамутнённость, и непорочная чистота, и детская доверчивость, и полное отсутствие всякого страха. Эти люди, всю свою жизнь посвятившие Богу и дорожному посоху, так много повидали на своём веку, что давно знали, в чём истина и в чём правда, а остальное их уже не занимало.
Поэтому разговоры их содержали в себе, в основном, повествования о святых местах, которые они посетили за свою жизнь, о чудесах, что Господь сподобил увидеть, о поучениях святых Отцов, о житиях святых. Особенно интересно была слушать рассказы о дальних странствиях, например, в Иерусалим на гроб Господень, или на святую гору Афон. Удивительно было слушать о необычных храмах, о гробницах под землёю с усыпальницами, о диковинных растениях и деревьях, об аскетических подвигах и святости современных им людей.
Потом они, дети, начинали играть в подвижников и мечтать о том, как вот так же уйдут в затвор и станут святыми, и люди будут приходить к ним за благословением, а они будут их исцелять и спасать от ужасных жизненных неурядиц.
Изредка страннички рассказывали о своей жизни, и каждый раз это было повествование, с которого можно книгу писать, только случалось это редко: не любили они говорить о далёком прошлом.
В это суровое время появилась и новая порода странствующих людей, согнанных советской властью с родимых мест и неприкаянно шатающихся по стране без цели, смысла и надежды. Эти были другие: смертельно усталые, с погасшими глазами, почерневшими лицами, наполненными отчаянием… Такие были молчаливы. Жадно поглощали пищу, а потом, перекрестясь, торопливо забивались в угол, определённый хозяйкою на ночлег, чтобы в кои-то веки выспаться в тепле. Христинка их особенно жалела и старалась посытнее накормить. Остаться пожить немного — не приглашала, по опыту зная, что непременно откажутся: неизбывный страх, что кто-то донесёт, предаст, гнал и гнал их вперёд с жестокой предопределённостью, ибо всё равно приходил момент,
когда их либо отлавливали, либо их застигала смерть от голода и истощения где-то на бесконечных путях-дорогах.
Поздней весной тридцать девятого года пришли из сельсовета обмерять землю. Митрофана не оставляли в покое, старались не мытьём, так катаньем загнать его в колхоз. Нужно же было отчитаться перед районным начальством, что у них стопроцентные показатели по выполнению указов сверху. А тут только одна семья упорно злостных единоличников портила всю картину.
Ну, обмеряли сельсоветчики участок и вместо положенных десяти соток нашли одиннадцать. И сразу Митрофану руки заломили назад, связали и увели. А Христинке сказали, что за то, что они «украли» у государства аж целую сотку земли, теперь в наказание землю обрежут совсем, по углы хаты. И обрезали. Оставили только что под домом. И, значит, вся экспроприированная земля отходит к колхозу. А раз так — убирай с неё все строения, куды хошь! И отстроенную пуню, и новый сарайчик, и уборную. И сколько Христинка ни доказывала, что они пользовались лишь той землёй, какую им отмерили, и что, следовательно, это не их ошибка, — всё было напрасно. Её даже и слушать не стали.
Вот когда наступили тяжкие времена! Оказывается, до этого они ещё жили относительно неплохо! Ведь уж земля была вся обработана, унавожена, вся засажена семенами, и только с картошкой ещё не успели. Хорошо ещё сад оставили или, вернее, ничего про него не сказали, а значит можно пользоваться.
Но что же теперь делать? Как теперь жить? Главного кормильца из семьи угнали, детей мал-мала меньше, да ещё за пятым пошла: Христинка оказалась на третьем месяце беременности.
Выплакавшись и горячо помолясь перед иконами, она взяла с собою уже подросшего Мишу, остальных детей оставила на Аню и старую бабку Маланью, и уехала к одному монаху Митяю, куда-то под Быхов.
Он тридцать лет лежал в расслаблении и всем, кто к нему приходил с просьбами, — предсказывал и помогал. А болезнь эта случилась с ним, ещё когда он был юношей и жил при монастыре. Восемнадцати годков он получил от игумена послушание пасти монастырское стадо. А была весна, ярко светило солнце, чисто по-летнему припекая голову, снег уже растаял весь. Вот он уморился, да и прилёг на бугорок, да и задремал. А земля-то только с виду просохла, может, только самый верхний слой. Но внутри-то она ледяная ещё! Его и скрутило. Дальше — больше, разбил паралич, и отнялись не только ноги, но и руки и все тело. Одна голова и жила в этом мертвенно неподвижном теле, а ещё глубоко внутри — душа, прекрасная, удивительная, тихим светом сиявшая в его огромных глазах.
Когда ехали к нему, Христинка всю дорогу убивалась по мужу. Времена-то страшные! Знали, если заберут — больше не увидишь, не для того арестовывали, чтоб отпускать. Сплошь и рядом вокруг так было.
Вот нашли они ту деревню, зашли в хату, пожилая женщина провела их за занавесочки.
Монах Митяй лежал высоко на лежанке, на нескольких матрасах и перинах, только, говорят, у него всё равно страшные пролежни были. Запах в комнате стоял удушливый, запах тяжёлой болезни.
— Ну, што, Хрыстинка, рассказывай, — раздался вдруг от постели, со всех этих перин и подушек неожиданно приятный и сильный голос.
Миша удивился: откуда этот человек знает его мать по имени? Но потом вспомнил: ведь он же прозорливый. Стала Христинка всё рассказывать, как забрали мужа, а она беременна, а землю обрезали, и есть нечего, а деток куча, — и слёзы потоком струились по её лицу.
Вдруг он прервал её на полуслове.
— Слушай, Хрыстинка, что я тебе скажу, — неторопливо, как бы задумчиво начал он свою речь. — Вот когда я был у монастыре, повёз я зерно на мельницу. Смолол. Получилось пять мешков муки. Ну и повёз я эти мешки назад. А дождь! А грязь! Колёса у телеги чуть ворочаются. Вот, три мешка и пришлось свалить у приходской церкви. А что остались, я едва дотащил до монастыря!
Христинка мучительно вслушивается в его речь, пытается понять и недоумевает, что это он рассказывает ей? У неё такое горе, не знает, как жить, чем детей кормить, а он про муку да про дождь. Головой что ли тронулся в болезни?
Посмотрела на него и дальше начинает рассказывать с того места, где он её остановил. Только монах послушал её немного и вновь прервал: «Погодь, Хрыстинка, вот я и говорю, ты ж послушай! Вёз я эти пять мешков. А дождь! А гразь!..- и слово в слово повторил то, о чём говорил вначале. «Митечка, что ж ты меня не слушаешь! — в отчаянии вскричала Христинка. — Я ж тебе рассказываю, какие у меня страсти, а ты мне про мешки с мукой!..» Монах укоризненно покачал обритой головою, глаза скосились и сверху обдали светом обоих, и мать, и сына.
«Не слушаешь ты меня», — воздух поколебал протяжный вздох. Разочарованная, уставшая, потерянная вернулась Христина домой, так ничего и не добившись от монаха.
И лишь спустя тридцать лет, когда все её дети благополучно выросли, в том числе и народившийся в ноябре сын, и все три сына стали священниками приходских церквей, а
две дочери остались Христовыми невестами, — только тогда она- поняла, про какие мешки толковал ей тот праведник, монах Митяй (Дмитрий).
Вернулась домой и в первое же воскресенье пошла в Трехсвятительский
храм поплакать перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, которую она очень чтила. И вот в конце службы подошли к ней две женщины из Старой Николаевки и и стали расспрашивать, отчего она так плачет, по кому убивается? Женщмны оказались знакомыми, обе – очень верующие, дружили между собой и в церковб вдвоем ходили.
И Христинку они знали хорошо, она же их только в лицо: народу-то в храм ходило очень много. Рассказала Христинка о своём горе, о том, что семья уже три дня голодает, нет даже картошины, а трава какая съедобная ещё не наросла.
Женщины утешили бедняжку и договорились тайком от мужей помогать ей. Мужья какие-то начальники были в колхозе, не простые колхозники, поэтому знать ничего были не должны, особенно по отношению к Митрофанову семейству. Эти женщины — Катерина и Зинаида — вот о ком знал монах Митяй или кого выпросил у Господа для спасения от голодной смерти Христинкиных деточек. Эти имена двух простых белорусских женщин стоит вписать в помянники всем потомкам халютовского рода и молиться за них, ибо, если б не они, — неизвестно, что бы стало с Митрофановой семьёй за время его пребывания в тюрьме.
А что же Митрофан? Видимо, по молитвам монаха, его не расстреляли, и даже следователь такой попался, что вновь приехали и обмерили землю, и нашли, что пользовались именно десятью сотками, а не одиннадцатью, что ошиблись сельсоветские «меряльщики». И Митрофана выпустили, только заставили к концу каждого месяца приходить отмечаться в милицию.
Счастлив был Митрофан, что, вернувшись, застал семью целой и невредимой. Рассказывал, как отчаянно переживал за них, когда его забрали, как боялся, что дети с голоду поумирают, и как молился горячо Богу каждый день.
«Веришь ли? Плакал — так молился!» — шепотом делился он с Христинкой своими переживаниями. «А кому молился?» — живо спросила та.
«А Николе-святителю и Покрову. Ты любишь акафист Покрову читать, я и молился».