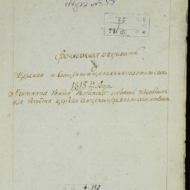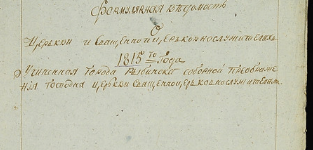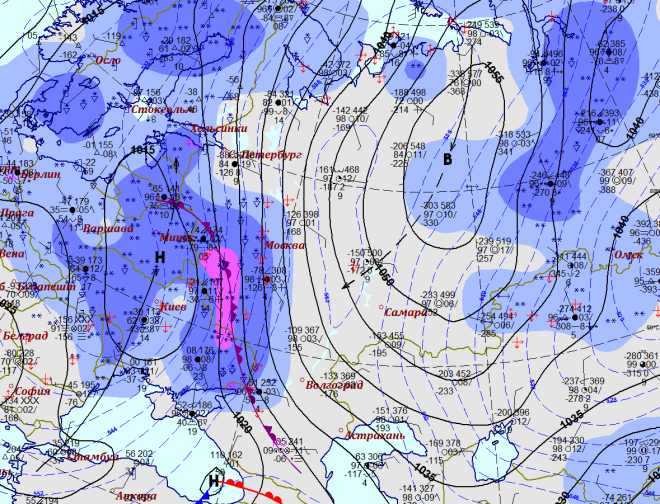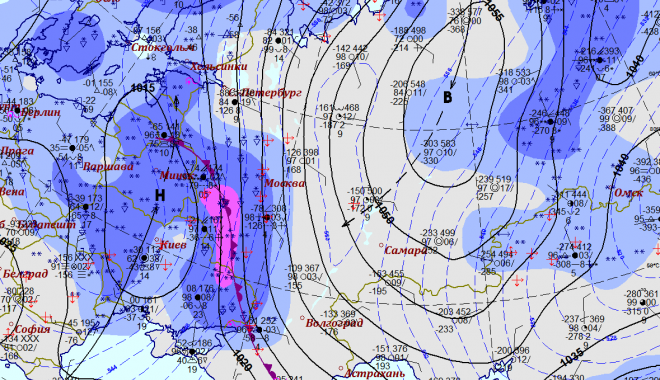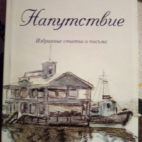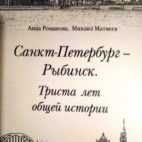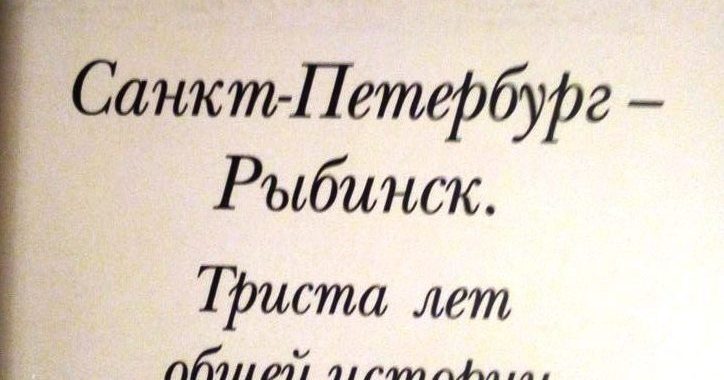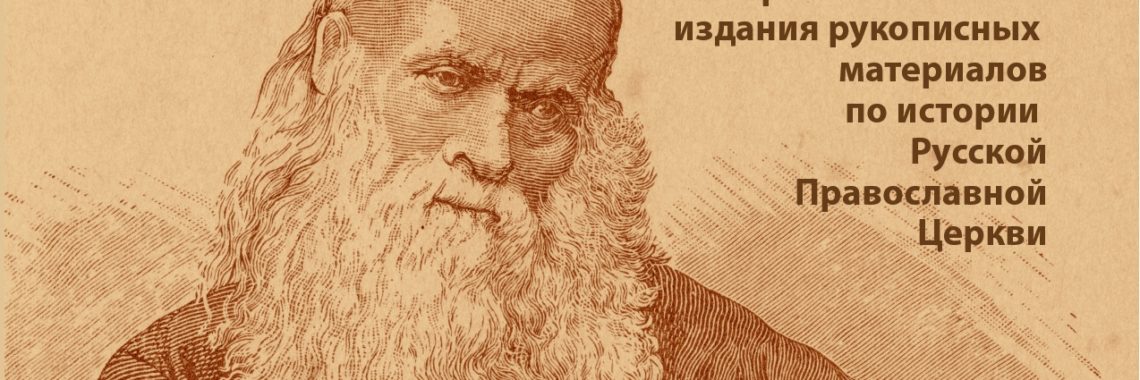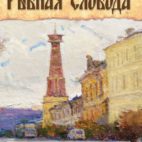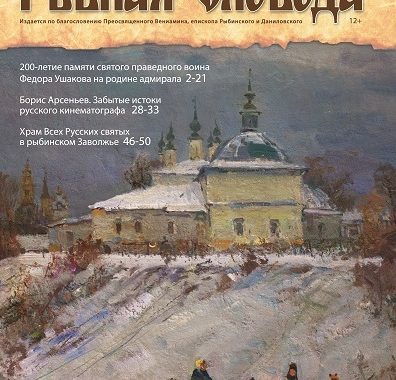...Труженики за истинную чистоту дела опять в великом меньшинстве, и опять плохо и невнятно понимаемы обществом, вновь слепо ринувшимся неведомо куда. Но при очередном русском нестроении это всегда так бывало. И тут нужно со всей возможной разумностью и со всей возможной ответственностью, зубы сжав в долгом терпении, вести работу за ещё удерживаемые плацдармы Наследия. Ведь это с них потом (уже не при нас) начнётся наступление против обожравшейся серости, против отупения и бесчувственности, против антикультуры. Кому-то эти сохранённые островки национального и честного могут пригодиться.
…Господи, ведь все неладности наши мы уже проходили, когда с трудом выстаивали против безбожного «самого передового общества», а потом против него открыто выступали и при жизни своей успели увидать его сокрушительное падение. Увы, жизнь человеческая коротка, и ещё одной трудной победы моим ровесникам не увидать. Но я в неё верю.
…Раскрыл страницы Вашего письма, и сразу сердце ласково и грустно чем-то сжало, и слеза едва не запросилась на глаза. Это от всё более ясного осознания кратковременности оставшихся дней земных? Это от услышанного голоса души понимающей? Или от города и страны, еще виденных и знаемых нами, но уже не живущих прежними? Бог весть… Но сердце мое становится всё более отзывным на веяние того, что Было…
Наверное, так и должно случиться. Ведь, очевидно, последняя ступень земных дел иной быть и не может (иначе для чего же пройден столь долгий путь и для чего же столь долго созревала душа?). Может, и весь-то её долгий земной путь вёл как раз к этой вот подлинной цели, к этой способности прослезиться от доброго слова и светлой мысли? И от навеянной минуты теплого воспоминания, вдруг словно ожившего сквозь нынешнее… Вот и мой давний текст о Рыбинске, заботливо помещенный редколлегией в «Среде», тоже навеял многое-многое…
Казалось бы, там ничего многозначащего и нету. Казалось бы, там одни малые малости. Но вот старик, сидевший на лавочке в одном из рыбинских двориков, мне почему-то памятен до сих пор. Ведь он так непосторонне поглядел на меня… И интерес к пришельцу явно отобразился на его лице, и некий доброжелательный порыв к общению явственно прочитался во всём его облике. А мне это ведь так знакомо! В своих краеведческих странствиях по Ярославии я многажды встречал таких деревенских старцев, для которых пришелец был бессомненно и интересен и радостен, словно посланец некой другой, но, должно быть,тоже вполне хорошей Ойкумены. И вот рыбинский дедушка… Это что же — в нём ещё жила деревенская всемирность русской души? Или старая Россия, страна по преимуществу уездная, этого никогда и не теряла?
Я был этому старцу непосторонен, я что-то мимоходом,но принёс его душе, а он настроен был что-то в ответ передать мне. Что? Дыхание старческой всепрощающей доброты? Доброе слово, которое совсем просто, но умеет пособлять на наших земных путях? Господи, ведь он был уже в такой промытой годами безгрешной дали великого возраста, что любое его слово, наверное, могло упасть в ладони пришельца, как тёплое обретение.
Да, в таких днях, когда-то отданных старым городским дворам, не имелось ничего исключительного. Какие-то частности, какие-то «мазки», мимоходом брошенные идущим днём на холст бытия. Но та женщина во дворе, развешивавшая бельё! Я для неё не существовал. Не было меня, и всё тут! А были только ветер, солнышко, развевавшееся на ветру бельё, и было хорошее настроение. Но как оно светилось, это настроение. Как оно сияло, лучилось, жило и в ней и во всё малом дворовом мире. И в этом своём сиянии она была неотразимо красива. Нет, прекрасна. Хот, наверное, ни прекрасной, ни даже красивой совсем не была.
Я не встречал в тех старых городских дворах ничего чрезвычайного. Наверное, всё было самым обыденным и, конечно, изо дня в день повторявшимся. Много-много раз повторявшимся. Но тот парень с гитарой, что сидел на выщербившихся ступеньках чёрного хода в большой дом. Он играл неведомо что. А скорее всего ничего определённого, подбирая, что Бог на душу положит. Но тихий перебор струн оказывался здесь таким своим и таким необходимым всему дворовому покою, что без него, вроде, этот мир и обеднел бы очень сильно.
Уйдя за палисадничек дворового флигелька, я послушал простую воркотню его переборов и хотел понять, с чего она так согласна с потемнелостью стен и усталостью крыш, с робостью травки, кдва зацепившейся за клочок земли и со смелостью солнечного луча, пробившегося сюда сквозь сито облаков и паутину проводов и антенн… Не понять, да и зачем искать разгадки малых тайн старых дворов? Им нужно просто радоваться, как простым, но сердечно дорогим подаркам судьбы.
И думаю, что вся «музыка» жизни тех старых дворов, суверенно устроивших свою жизнь за образцовой фасадой проспекта, была очень важным явлением самостояния русского человека, упорно желавшего устроить в большом мире мощного города ещё и свой маленький, но уютно самостоятельный мирок, исповедующий и отстаивающий простые красоты и простые ценности, принесённые неведомо из какой дали времён и событий. И, должно быть, эта даль была когда-то и слободской, и даже деревенской. Той самой, о которой Виктор Астафьев проникновенно сказал: «Я пришёл в мир добрый, родной, и любил его безмерно…» Да и мы все его любили. Любили, не отдавая себе отчёта в том, сколь проста, но глубока эта любовь, завещанная предками. Может, она и отдавалась в чувствах моих, потревоженных встречами в старых рыбинских дворах?
Может быть, ведь даль времен по преимуществу молчалива. Но что-то совершенно определённое она всё же сообщает. Вот и мне старые дворы безмолвно сообщали, что они есть ни что иное, как реально существующая традиционная составляющая русской жизни, занимавшей по крайней мере два века и за это немалое время обретшей устойчивость, крепость и свою особую ментальность.
Это миропонимание, наверное, было принесено ещё из деревенского, а потом слободского прошлого; оно было отлито, отгранено, отчеканено уже городским бытием, в котором двор оставался немалой частью мира прежних малых социумов и посильно ещё хранил саму истоковость людских взаимоотношений. Может быть, эти сообщества складывались как-то по-иному, но в старой уездной России суть жизни в тогдашних, ещё совсем небольших городах была такой — во многом соседской.
Дворовый мир хранил немалую свободу в обустройстве жизни малого сообщества. Все примечаемые мною забавные и трогательные вольности внутридворовой застройки и обустройства (а порой уже и архитектуры!) во весь голос заявляли о праве на свою, вот эту «дворовопотаённую» культуру. И было совершенно ясно, что перед нами ни что иное, как особая городская субкультура, живущая вне любых строгих властных директив.
Была ли она явлением, вполне достойным уважения, или же имела право лишь на снисходительность зрителя и выше примитивных решений не поднималась? Но если обратиться к античности (то есть к истоками теории архитектуры), то Витрувий в своё время сделал до полной прозрачности мудрый вывод о том, что главные и достойнейшие качества подлинной архитектуры это польза, прочность и простота. И никакого надмирного и заумного абстрагирования. (Ведь те же самые античные мыслители с безжалостной чёткостью отмечали, что многое знание мудрости ещё не научает…)
Так если с этих классических позиций смотреть, то драгоценный для меня мир старых рыбинских дворов им стопроцентно отвечал. Он был трогателен в своём почти детском налаживании небогатой надёжности, прочности и… прелести своих флигельков, палисадничков, тропиночек, цветничков. И с теплым понимающим сочувствием глядя на эти муравьиные старания дворового люда, можно было прийти к достаточно серьезным мыслям.
И вот первая из них: архаическая культура давних людских обществ, по сути дела, пренебрегала роскошью. А носителям культуры старых городских дворов мысли о роскоши уже самой силой жизни и в голову прийти не могли… Этот народ по условиям своей жизни был почти праведно непритязателен. И атмосфера отношений этих людей была несказанно добрей нынешней. Должно быть, обо всё этом великий писатель Леонид Леонов тихо повторял перед смертью: Какой народ был… Какой народ, Боже мой, русский… И какая трагическая судьба…»
А вот и вторая мысль: деревня, слобода, старый городской двор волей-неволей создавали или, по крайней мере, сохраняли малые социум, малые сообщества с их единящими людей культурой, историей, общими ценностями. Здесь даже и уровень жизни (хорошо ли это, плохо ли) был достаточно ровным, он уже сам по себе отрицал чье-то возвышение любой ценой. (А сколь жестоко справляет свой праздник это возвышение сегодня).
И вот третья, может быть, наиболее существенная мысль: старые городские дворы (в нашем случае рыбинские) были весьма существенной частью Наследия. Правда, именно эта его часть большинством россиян в расчет совершенно не принимается. За главное любого города. Или же (что ещё хуже) лишь его отдельные памятники, то есть «штучные изделия». Лишь у замечательного современного градоведа В.Р. Крогиуса я встретил мысль о надобности перехода от «штучного» сохранения наследия к сохранению всей среды города. То есть речь идет о том,чтобы с самого начала иметь ввиду целостный комплекс наследия. Но здесь мыслитель подошёл уже к самому трудному, а скорей утопическому желанию. (Хотя какую-то часть кварталов с такими дворами обязательно следовало бы сохранить, и сохранить населёнными, это был бы весьма любопытный объект туристического показа…)
Будем искрении: комплексность Наследия у нас лучше всего и дольше сохраняется в деревнях и в городах-бедняках. Казалось бы, всё должно быть наоборот. Но тем не менее — в России всё обстоит именно так.
В городах сильных и богатых (а Рыбинск таков) всё идёт по расчетам обнажённо голой выгоды. Сегодня здесь осуществляется диктат экономических требований в его худшей «редакции». И нынешняя застройка любого сильного города (и Рыбинска тоже) всё более холодна и безлика. Но стоит ли удивляться? Ведь и российский человек в его современной (очень ранней, едва ли не первичной) рыночной реальности чаще всего тоже безлик. Так от кого же ждать образности мышления?
Размышляя об этом, Ермолай Солженицын на Тринадцатом Экономическом форуме (в 2015 году) с безрадостной чёткостью отметил, что вся стратегия развития нашего общества «адресована не столько обществу и государству, сколько бизнесу». А он в России пока слишком мало культурен. Сегодня он и есть демиург мира малонравственного, упрощенного до примитивности, жестокого и нерадостного. И здесь нам уместно повторить и договорить до конца начатую выше цитату Астафьева: «Я пришёл в мир добрый, родной, и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». И словно ему отозвался столь же горестно из последних земных дней своих Леонов: «Нет ничего горше, чем в упор разглядывать человека…» И мы не имеем причин спорить с великими.
Сейчас происходит (или завершается?) великое отступление Наследия со своих законных рубежей. Наследие отступает на островки музеев иных хранилищ. В обычной жизни России места ему не остаётся. Здесь почти повсюду идёт повседневная и тотально безжалостная война с Наследием. И эту войну ведёт не только авангард Рынка, а почти всё русское население страны. Наследию не остаётся места даже и в некоторых храмах, а под угрозой похищения и погубления оно находится едва ли не во всех. Так что уж вспоминать о старых городских дворах, раздавленных и разбитых бессовестной «точечной» застройкой…
Да и весь прежний российский мир с его деревенским и городским менталитетом, сложившимся за имперское и отчасти за советское время, крайне разрушен. Можем ли мы хотя бы мысленно, хотя бы душевно протестовать против этого? Академик Раушенбах нас от этого разумно предостерёг: «Каждое новое поколение по-своему право. Правы и старики, но молодые ближе к живой реальности». Да, ближе к реальности «демократической олигархии», голого расчёта, отрицания совести и красоты, «точечной застройки» и ещё многого.
Но ко мне всё чаще приходит тяжёлая серая мысль: а может, это в жизнь приходит совсем новая культура (или антикультура)? Может быть, сегодняшнее новое это уже откровенная эстетика Безобразного?
…В книге Алексея Варламова «Купол» его главный герой рассказывает о книге, написанной неким русским священником. Вот цитата: «В ней говорилось о том, что в конечном итоге мы потерпим поражение, но не надо бояться, что мы отдадим нашу землю, потому что на этой земле мы всё равно странники…» Должно быть, это безошибочно мудро. Но однако и сам Варламов с этим не согласен!
Вот его слова: «…Во мне что-то опротестует против этих по-человечески хмурых, бессердечных, хотя по-своему абсолютно верных рассуждений, и мне делается безмерно жаль моей далёкой страны, её больших и малых городов, один из которых мне дороже всего…»
Вот так и я. Мне безмерно жаль и крутые мощёные улочки Романов-Борисоглебска, и домашнюю тишину моего Мышкина, и старые рыбинские дворы… И я сильно нерадостен. Но не уныл!
Я ведь знаю, как всё это понимать и что средь этого понимания надо делать.
Понимание это совсем простое. Русское общество по сравнению со многими другими и очень молодо, и очень незрело. Ему бы ещё взрослеть и взрослеть. Ему бы ещё умнеть и умнеть. Революция и долгое строительство «самого передового на Земле общества» сломали и прервали тяжёлый, но естественный ход этого взросления. И сейчас мы начали даже не из математического нуля, а из глубокого минуса.
Плохо идёт? Очень плохо и очень порочно. При официальных громких речах о подлинном патриотизме и подлинной нашей идентичности кругом тотально рушат то, что хранит последний отзвук и былого патриотизма, и былой идентичности. (Крича о кристальной чистоте источника, топчемся в нём, превращая в подлинную грязь…)
А труженики за истинную чистоту дела опять в великом меньшинстве, и опять плохо и невнятно понимаемы обществом, вновь слепо ринувшимся неведомо куда. Но при очередном русском нестроении это всегда так бывало. И тут нужно со всей возможной разумностью и со всей возможной ответственностью, зубы сжав в долгом терпении, вести работу за ещё удерживаемые плацдармы Наследия. Ведь это с них потом (уже не при нас) начнётся наступление против обожравшейся серости, против отупения и бесчувственности, против антикультуры. Кому-то эти сохранённые островки национального и честного могут пригодиться. И мы им завещаем именно их…
…Господи, ведь все неладности наши мы уже проходили, когда с трудом выстаивали против безбожного «самого передового общества», а потом против него открыто выступали и при жизни своей успели увидать его сокрушительное падение. Увы, жизнь человеческая коротка, и ещё одной трудной победы моим ровесникам не увидать. Но я в неё верю.