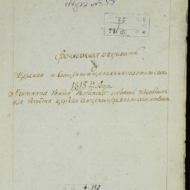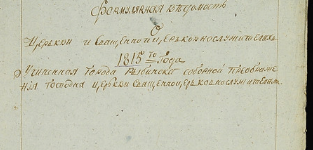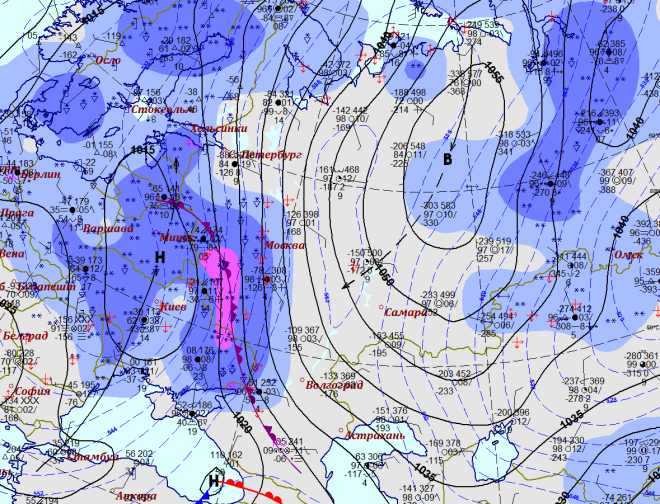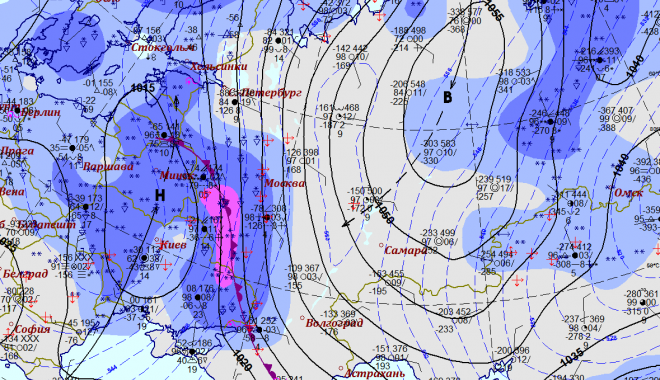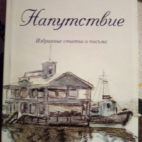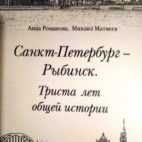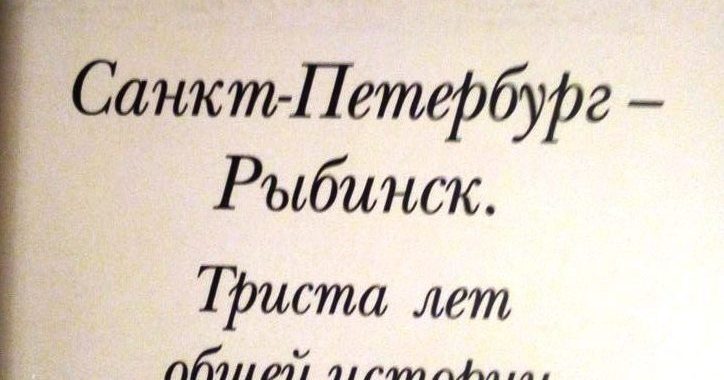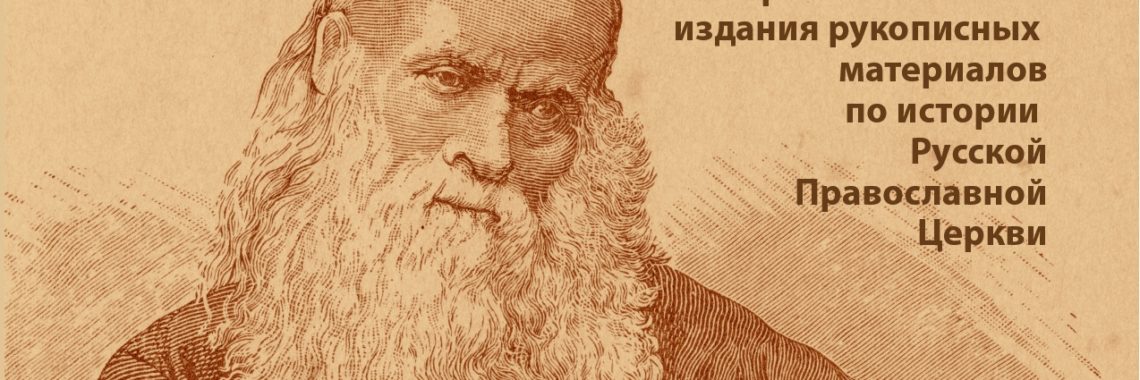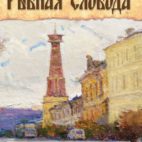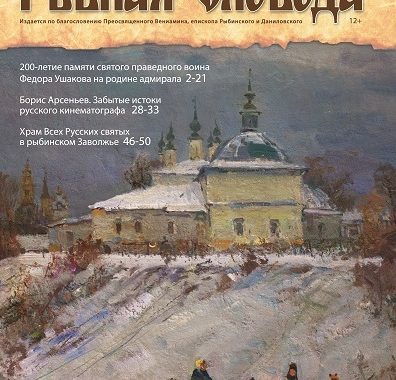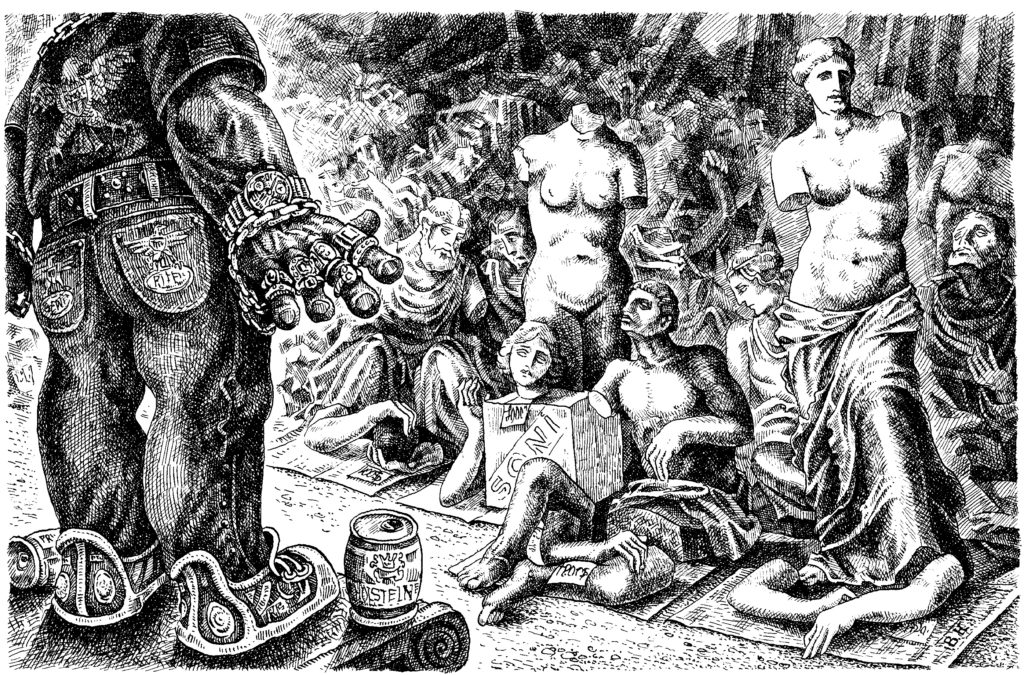С Вячеславом Михайловичем Корневым — И. Глумовым, «Провинциальным наблюдателем» «Рыбинской среды» — я познакомилась в 1999 году, с легкой руки Владимира Борисовича Вербицкого. Работая в «Рыбинских известиях», взялась публиковать главы его «Таинственной жизни водоёма», и однажды он привез с собой из Борка корневские тексты. Блестящие эссе, в которых, конечно, было немало политики. Но несколько мы всё же опубликовали, вызвав разную реакцию читателей… А потом появилась «Рыбинская среда», бумажные номера которой люди искали «ради Глумова». Таких эссе — он назвал их «зарубками на дисплее» — набралось, думаю, около сотни. Они были для Корнева «упражнением для ума». И всегда вдохновляла его Жанна, любимая жена. Задачи иногда брался ставить главный редактор — Николай Васильевич Романов. Но тогда результат не всегда был блестящим. — Нужна была творческая свобода.
В.М. работал в геофизической обсерватории Института физики Земли РАН в Борке, Жанна была научным сотрудником другого исследовательского учреждения — Института биологии внутренних вод РАН. С 1999 года мы дружили семьями. Впервые попав в Корневым в гости, были изумлены и художественным даром Вячеслава Михайловича. Сотни акварелей, замысловатых карандашных рисунков, серии настоящей политической карикатуры, а также написанных тушью «почеркушек», — это лишь небольшой перечень жанров. (Некоторые работы Корнева публикуются в этом тексте). Оказалось, что в начале 90-х Корнев несколько месяцев — до расстрела парламента — работал художником-карикатуристом в «Российской газете». В начале 2000-х в его литературном творчестве появился жанр путевых заметок, ибо они с Жанной, после защиты докторской диссертации получившей президентский грант за исследования, купили совершенно новый «жигуленок». А потом стали бывать за границей. Уже тогда Рыбинск настигли времена всеобщей разобщенности, а из Борка мы всегда уезжали согретые дружеским теплом.
В 2015 году заболела Жанна. Её не стало 12 сентября 2017 года. Корнев ушел в тот же день, но два года спустя. Обоих отпел в Троицком храме села Верхне-Никульского отец Георгий Захаров.
Вспоминая сегодня их обоих, «Рыбинская среда» впервые публикует текст воспоминаний Вячеслава Михайловича, написанных в 2017-2018 годах. Эти объемные мемуары — размышления зрелого человека о своем происхождении в контексте известной истории страны и имеющегося жизненного опыта — остались недописанными. Но это никак не умаляет их художественных и публицистических достоинств. Как пишет уже в конце этого повествования сам автор, » я всего-то хотел сказать, что на пустошах, в которые превратилась Русь, когда-то жили люди».
В который раз уже берусь я за эти записки и все время сталкиваюсь с непреодолимым препятствием: необходимостью хотя бы для себя обосновать факт их написания. В результате я вымарываю всякое очередное вступление, а заодно и часть уже готовых мемуаров, так что на сей день передо мной светится на экране монитора лишь пара страничек, да и те подвергнутся обязательному обрезанию.
Итак, сейчас я не вижу в них иного смысла кроме попытки отодвинуть неумолимое наступление Альцгеймера – этого врага стариковского рода. Некоторые мои ровесники с той же целью решают кроссворды, учат стихи или иностранные языки. Словом, задают работу мозгу. Я же где-то слышал, что создание длинных и достаточно связных текстов позволяет более верно судить: у порога ли враг или еще можно успеть «доскакать до канадской границы». Есть в этом методе только одна трудность: найти человека, который бы данный текст прочитал. Но это задача будущего. Поэтому не буду пока над ней задумываться.
Кроме того, мой рассказ о детстве мог бы представлять некоторый интерес для ученых, занимающихся этнографией советского быта. Про быт советских городов середины двадцатого века написано много и в общем-то одинаково: автобусы, троллейбусы, автоматы с газировкой, красные галстуки, демонстрации… Лицо же русской деревни сильно меняется в зависимости от географической широты, долготы, а также утвердившихся в данной местности свычаев и обычаев. Так что всякая частная зарисовка может обогатить общую картину нашего прошлого.
Изобразить словами истинную и полную правду невозможно никогда. Этому препятствует и внутренняя стыдливость и просто объективное несовершенство нашей памяти. Даже вспоминая вчерашний вечер, вы неизбежно ошибетесь в каких-то деталях. А уж пересказывая его другим, можете и приврать, подкорректировать некие мелочи для пущей художественной выразительности. Так я и буду поступать, тем более что речь пойдет о временах далеких и событиях во многих местах гадательных.
Когда меня спрашивают о месте рождения, я отвечаю по-разному. Если вопрос официальный, отвечаю строго по паспорту: поселок Кемский лесопильный завод Шольского района Вологодской области. А попросту говорю: деревня Конёво. И тот и другой ответ не совсем верны, и для прояснения ситуации надо обратиться к географии. В северо-западной части Белого озера в него впадает множество рек и речушек. Я родился на слиянии рек Кема и Ковжа. – Кто с кем сливался теперь сказать трудно, но в месте слияния образовывалось три сектора суши. В одном из них стоял Кемский л\п завод, в другом поселок Андреевский, в третьем – самом захудалом — деревня Конёво.
В поселке Кемском находились местные административные органы, школа, общественные бани, клуб, магазины (среди них даже книжный) и заброшенный лесопильный завод, ибо в описываемое время лес уже не обрабатывали, а гнали кругляком по воде.
В Андреевском была больница, еще одна школа, еще один клуб (речников) и –главное – речной порт, который, в основном, давал работу местным обитателям.
В Конёве не было ничего, кроме полутора-двух десятков изб предположительно конца 19-го – начала 20-го века. Не было даже постоянного электричества. Но подробное описание моей малой родины я оставлю на потом.
Таким образом, вырисовывается следующая картина моего происхождения: родился я в поселке Андреевском (больница!), оформился как гражданин СССР в поселке Кемском (сельсовет!), а жил фактически в деревне Конёво.
Сделаю тут небольшое отступление – первое, но не последнее. В книжке одного «альтернативного историка», пишущего в основном про цивилизацию гиперборейцев, процветавшую некогда возле Полярного круга и положившую основу всем остальным цивилизациям (в доказательство приводятся примитивные рисунки, выдолбленные на заполярных валунах), я прочитал, что в России имеются две сакральные реки – два «места силы». Ответ на вопрос «какие?» не тривиален: это не Волга, не Дон, не Днепр и даже не Лена, Енисей, Обь и Ангара. – Сила России сосредоточена на реках Кема и Катунь. На берегу Кемы я, как уже сообщалось, родился, а на брегах Катуни (или ее притока — Ануя) оказался в возрасте лет 3-4-х. Катунь, если кому не известно, находится на Алтае, то есть примерно в 4000 километрах от Вологодской области.
Кема – река не очень длинная, но полноводная. По ней спокойно ходили (ходят и сейчас) большие речные суда и беспрерывно тянулись плотовые караваны, их называли гОнки. Никаких мостов ни на Кеме, ни на Ковже отродясь не было. Поэтому все три представленных мной населенных пункта общались почти исключительно лодочным транспортом. Между Андреевским и Кемским поселками имелась своеобразная понтонная переправа – лава – сцепленные друг с другом плоты из трех-четырех бревен с положенными поверху досками. Но и лаву все время приходилось расцеплять и оттаскивать к берегу, чтобы давать проход судам. В каждом приличном доме имелась пара лодок различной грузоподъемности: для личных передвижений и для перевозки тяжестей. Лодки в начальную пору моего существования были исключительно дощатые и гребные, хотя появление первых лодочных моторов я тоже застал.
Зимой, естественно, ходили и ездили по льду. Но прежде, чем лед вставал, несколько человек обычно успевали потонуть. Только после этого по перволедку перебрасывались деревянные мостки, по которым можно было передвигаться относительно безопасно.
Все это я еще надеюсь описать, а пока вернусь к собственной скромной персоне.
Первое мое воспоминание относится к трехмесячному возрасту. Лев Толстой утверждал, что помнил сам момент рождения: сперва все было темно, а потом появился свет и захотелось орать. У меня таких претензий нет, но зато есть документальные факты.
Родился я 4,5- килограммовым богатырем. И как такой отличный экземпляр было не запечатлеть для истории? К тому же надо было послать портрет и отцу младенца, который в это время оканчивал военное училище и готовился надеть офицерские погоны. Но дело было поздней осенью, а пока я дорос до фотосессии, вообще наступила лютая зима. Электричества в избе не имелось, а фотографическая техника тогда еще не достигла современных высот. Поэтому, чтобы добиться достаточного освещения, меня положили голенького под окошком. Результат трудов фотографа имеется в семейном архиве: там я лежу весь из себя красавец и бодро держу головку. Но так уж получилось, что после этого фотосеанса богатырь получил двустороннее воспаление легких.
А дальше белые больничные потолки, беленые больничные печки, люди в белых халатах, специфические больничные запахи… Все это я помню, и никакими ложными посторонними впечатлениями это объяснить нельзя, потому что последующие 60 лет я в пациентах медицинского стационара не состоял.
Трудно теперь решать: хорошо это или плохо, но я, благодаря пенициллину, переставшему к этому времени быть сугубо военным лекарством, выжил.
Кому-то наше тройственное Андреевско-Кемско-Конёвское поселение, существовавшее аж в середине 20-го века, может показаться странным. Оно и в самом деле было странным: ни одна сухопутная дорога не связывала его с остальным миром. При том, что Белозерье являлось одним из первых центров русской государственности. А раз не было дорог, то не было нужды и в автомобилях. Тракторов имелось много – да. Но в основном только гусеничных трелевочных тракторов с могучими железными щитами на горбу. Но и то, дизельные двигатели были у них редкостью, а обычными были двигатели газогенераторные, работающие на дровах.
На самом деле такая позаброшенность моей малой родины объяснялась просто: предки наши пользовались в основном водными путями сообщения, а они-то сохранялись в целости и в ближайшее время должны были усовершенствоваться после расширения Мариинской водной системы, для чего северо-западная часть Белозерья подлежала затоплению. В ожидании этого рукотворного потопа и прошла значительная часть моего детства.
Однако пора перейти к генеалогии «нашего героя».
Мое генеалогическое древо, как и у большинства современников, имеющих деревенские корни, не слишком высокое и даже не пышное. Потомственные горожане, глядишь, и найдут в предках какого-нибудь коллежского асессора, купца второй гильдии или даже князя, а с крестьянами все ясно: и сами они пахали, и деды и прадеды, а имена их сгорели вместе с церковно-приходскими книгами, которые сгорели со своими церквами.
Деда и бабушку с отцовской стороны я никогда не видел, потому что они умерли до моего появления на свет. От деда осталось хотя бы имя – Фёдор, а про бабушку и того не знаю, и спросить не у кого. Не знаю даже какая судьба занесла их на Алтай: были ли их предки беглыми раскольниками, вольными казаками или просто столыпинскими переселенцами? – Бог весть.
Про деда с материнской стороны мне известно немногим больше. Звали его Андрей Яковлевич Давыдов. Однажды, будучи уже в изрядном маразме, мама сообщила мне, что дед приходился родственником – чуть ли не братом – небезызвестному Г.Е.Распутину. Мне это предположение кажется безосновательным. Тем более что никаких сведений, подтверждающих эту гипотезу, мне из мамы вытянуть не удалось. Напротив, в маминых бумагах обнаружилось свидетельство о том, что родился он 16 октября 1900 года в деревне Конёво Вологодской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. То есть свидетельство было выписано, когда деду было уже за тридцать, ибо при его рождении никакой РСФСР еще не существовало. Та половинка, куда заносятся сведения о родителях, отсутствовала.
Андрей Яковлевич имел какое-то маломальское техническое образование и перед войной работал мотористом то в леспромхозе, то на катерах, обеспечивавших лесосплав. Во время войны он был мобилизован, но до фронта не доехал, так как эшелон с новобранцами разбомбили фашисты. Деда тяжело ранило, и после долгого мытарства по госпиталям он вернулся инвалидом в Конёво. Здесь он и умер, но уже после войны, когда мне было года 3-4.
Мне дед запомнился вечно сердитым и небритым старичком, который, однако, пытался наладить отношения с внуком и мастерил ему из всяких деревянных обрезков первые игрушки: в основном катера и пароходы. Я же однажды проявил к нему черную неблагодарность: подполз и больно укусил за ногу. Дед орал громко, но поверить в мое врожденное коварство не хотел, а винил во всем «этих баб», то есть жену и дочек, подговоривших внучка на эдакое злодейство.
Недавно мне попалась в маминых архивах фотография с похорон какой-то деревенской родственницы: у гроба средь прочих стоит мама молодая и красивая, а рядом… я собственной персоной – каким был с десяток лет тому назад. Таким был мой дедушка.
Андрей Яковлевич Давыдов нашел себе невесту в деревне Киснема, нельзя сказать, что так уж близко от Конёва. Но в те времена в поисках суженого-ряженого принято было ходить на посиделки не за один десяток верст. Мне удалось разведать, что ныне не существующая Киснема в те времена была местом более «престижным», чем захудалое Конёво. Скорее это даже была не деревня, а село с большой Троицкой церковью. И вообще это место было известно еще со времен Рюрика, ибо именно здесь легендарный Синеус основал первый Белозерск. Позднее Белозерск был перенесен на другую сторону озера в устье Шексны, а киснемское варяжское городище так и оставалось почти неизученным пока не скрылось под водой.
Не надо быть филологом, чтобы определить топоним «Киснема», как финно-угорский. (Так же как Кема и Ковжа). Впрочем, к приходу Рюрика местность эта была колонизирована славянами-кривичами. Воины-варяги (или, если угодно викинги), как и любые другие воины того времени, не отличались особым целомудрием и щедро рассеивали свое семя среди поверженных народов.
К чему я это говорю? А к тому, что известные мне потомки рода Давыдовых никак не похожи на чухонцев, а время от времени среди них появляются образцовые представители «нордической расы». Например, моя кузина Лена, у которой детей, к сожалению, нет.
Итак, дед нашел себе суженую в деревне Киснема. Звали ее Александра Ивановна Лаврентьева. Мать ее – мою прабабушку – тоже звали Александра, а прадеда, соответственно Иван. По рассказам бабушки знаю, что был он невысок, кряжист и отменно силен. В качестве примера бабушка приводила случай, когда ее отец нес 5-пудовый мешок ячменя 8 верст и только однажды присел отдохнуть. Этой легендой и ограничиваются мои сведения о прапращуре.
Молодые – я полагаю – обвенчались в Троицкой церкви и перебрались на родину мужа – в Конёво, где, согласно завету, стали в поте лица своего заниматься крестьянским трудом, а также плодиться и размножаться.
Всего детей у них было восемь, но до зрелого возраста доросли пятеро: Тамара, Александра, Валерий, Анна и Лидия. Александра – моя мама, и названа она по святцам, то есть родилась именно 2 апреля в день св. Александры. Бабушка и прабабушка тоже родились в этот день. Была среди наших женщин такая традиция – рожать в собственный день рождения.
Тетушка Лидия получила свое имя случайно. Родители хотели назвать ее Лилия – не знаю откуда уж у них взялось этакое декадентское желание, но в сельсовете такого имени не знали и написали близкое по звучанию, мол, и так сойдет. Впрочем, в семейном обиходе она была всегда Лилей.
Имя Валерий – тоже не самое распространенное в деревне – бабушке очень нравилось, и она зачастую называла меня Валерушко (хотя обычно – Славушко). Странно, но и в дальнейшей жизни люди малознакомые неоднократно обращались ко мне по этому имени. Надо, пожалуй, посмотреть, что оно означает. (Посмотрел. Ничего особенного: «крепкий, здоровый». Не жалуюсь. Но уж не до такой степени, чтобы было видно с первого взгляда).
Немного демографии. Андрей и Александра Давыдовы, как уже было сказано, произвели на свет пятерых детей. Потомки их вместе с супругами (то есть вдесятером) родили еще пятерых: меня и двух моих кузенов и двух кузин. У нашего поколения в общей сложности восемь детей и всего два внука. Правда, некоторые дети еще не вошли в репродуктивный возраст. Никакой закономерности здесь не видно, но тенденция к захиреванию рода прослеживается.
Однако, пора вернуться к истории собственного происхождения. Прочих же родственников буду поминать в тех местах, где их судьбы пересекались с моею, что в детстве случалось довольно часто. И, конечно, особый рассказ будет о бабушке. Кстати, по ее словам, время их с мужем единоличного хозяйствования было самым счастливым в ее жизни. Земли вокруг Конёва, хотя и скудные от природы, тогда еще не подвергались регулярным подтоплениям и вполне позволяли прокормиться. Дети рождались исправно. Во дворе ржала, мычала, блеяла, хрюкала и квохтала вся необходимая в хозяйстве скотина. Под двором я имею в виду скотный двор, который у нас на севере находился под одной крышей с основной избой. Разделяли их сеновал, сени, кладовки и уборная: удобства на улице в наших широтах не практиковались. Идиллия эта продолжалась ровно до Года Великого Перелома. Тогда уж семейству Давыдовых пришлось вступить в колхоз. Однако в наших краях всю скотину до последней курицы не обобществляли, и в хозяйстве осталась и корова, и овцы, и поросята, и домашняя птица. Только работать теперь приходилось и на колхозной ниве, и для себя – чтобы прокормиться. Вскоре – не знаю когда именно – начались работы по реконструкции Мариинской системы. Окрестные поля по весне стало затоплять – чем дальше, тем больше. И они стали совсем непригодны для сельского хозяйства. Колхозы пришлось распустить. Дед устроился на работу в леспромхоз, а бабушка снова стала единоличницей или, говоря по-советски, домохозяйкой.
Роспуск колхозов в какой-то мере оказался благом для местного населения: люди получили паспорта и стали полноправными гражданами Страны Советов, то есть теперь имели возможность искать пропитание в любой другой точке СССР. Там, где колхозы сохранились, крестьянам выдали паспорта только в 60-е годы.
Первой упорхнула из-под родительского крова тетя Тамара. Она вышла замуж за офицера, что для деревенской девушки было очень престижно. Муж ее – дядя Жора – служил где-то возле Пскова, что впоследствии сказалось на судьбе следующей по старшинству сестры – Александры.
Тем временем мама моя, закончив семилетку – тогда это было базовое образование, – стала работать в районной аптеке поселка Шола кем-то вроде помощника провизора, а, скорее уборщицей. Там она и жила. Домой же возвращалась только в выходной (в то время он был только один), прошагав по льду километров 15, чтобы подкормиться и прихватить деревенских харчей. Очень тепло она вспоминала старого провизора-еврея, который регулярно приносил из дома кашу и подкармливал свою подчиненную, приговаривая: «Кушайте, Шугочка, кушайте. Ви такая худенькая». Помяну и я его добрым словом, хотя имя запамятовал. Ну, уж ТАМ разберутся. Из работы в аптеке мама вынесла некоторые сведения об употреблении лекарств и всегда слыла в семье авторитетом в этой области.
Тетя Тамара, за короткое время ставшая заправской горожанкой, предпринимала определенные шаги, чтобы вытащить из деревни младшую сестру. Не ведаю конкретных деталей, но вскоре Александра Давыдова оказалась в городе Остров Псковской области в роли пионервожатой пионерской дружины имени Лизы Чайкиной. Зная мамину коммуникабельность, не покидавшую ее почти до самых последних дней, я этой метаморфозе не особенно удивляюсь.
В Острове в те времена располагалось, да, кажется, и по сей день располагается Псковское военное училище воздушно-десантных войск, бывших тогда еще довольно большой редкостью в Советской Армии. Курсантом этого училища был и Михаил Фёдорович Корнев – мой будущий отец. Родился он, как я уже упоминал, на Алтае в селе Солонешное. Окончив 7 классов, попал на работу в райвоенкомат (Солонешное – районный центр) кем-то вроде писаря или делопроизводителя – грамотеев тогда в селе недоставало. Шел 1943-ий год, а Михаилу — 17-ый. Опасаясь, что война может закончиться без него, он злоупотребил служебным положением, приписал себе лишний годик в нужных бумагах и вскоре оказался рядовым пехотинцем 308-го гвардейского пехотного полка. Факт этот как-то не вяжется с убеждением нашей прогрессивной интеллигенции в том, что войну выиграли главным образом штрафные батальоны, подпираемые с тыла свирепыми заградотрядами. А прочих граждан приходилось загонять в армию железной метлой НКВД.
Пехота – самый расходный вид войск. В марте 44-го отец был тяжело ранен: пуля пробила легкое и прошла в сантиметре от сердца. Однако молодой организм справился с раной и после госпиталя отец достойно закончил войну, заработав орден Отечественной войны 2-ой степени и пару-тройку медалей. Позднее, уже в брежневские времена, ветеранам, имевшим вторую степень, выдали и орден первой степени. Но это кажется потому, что у величайшего полководца Брежнева по недосмотру тоже была только вторая степень, а стать полным кавалером ему очень хотелось. Не забыл он себя побаловать и очередной Золотой Звездой. Нормальные же воины нового ордена стеснялись: странно было получать награду через 30 лет после войны и не за какой-либо подвиг, а просто за компанию. Не понимали этого, наверное, только престарелые члены Политбюро ЦК КПСС. Начальству на Руси вообще не свойственно понимать, чем на самом деле живет страна. Не побоялся признать сей факт только Ю. В. Андропов. Но его робкая попытка скоро была забыта, и все снова идет, как повелось от века.
Отцу военное дело, видимо, пришлось по сердцу, и он решил стать кадровым офицером, то есть поступил в военное училище. После войны И. В. Сталин, понимая, что Советский Союз внутренне возрождается как империя, озаботился тем, чтобы придать этому факту соответствующие внешние атрибуты, одним из которых должно было стать возрождение офицерской касты. Еще в 1943-м появились погоны. Позднее возродились суды офицерской чести, а в военных училищах стали преподавать этикет и танцы.
Не могу удержаться еще от одного отступления. Среди прочих задумок Сталина было и введение в советской школе изучения древних языков. Оказалось, однако, что старые латинисты либо повымерли естественным путем, либо сгнили в лагерях, либо благоразумно затаились, а новое поколение филологов-античников само по себе не зародилось из-за ненадобности. И тогда в университетах на отделения классической филологии студентов стали загонять чуть ли не силой. История эта интересно описана в воспоминаниях нашего выдающегося филолога М. М. Гаспарова. Со смертью вождя этот неоклассический бум закончился.
Итак, танцы… Понятно, что в учебных классах курсанты могли танцевать и друг с другом, но некоторая двусмысленность и эмоциональная неполноценность таких занятий были очевидны. И тогда в военных училищах стали устраивать балы, на которые приглашали и штатских – преимущественно женского пола. Там и познакомились мои родители. Познакомились, полюбили друг друга и поженились. – Тогда говорили «расписались», ибо народ был просто беден и не мог позволить себе ничего экстраординарного.
Вероятно, в Острове я и был зачат.
Тут я просто обязан сказать, что в молодости мама была очень красива. Говорю это без всякого субъективизма, просто рассматривая фотографии, на которых она ничуть не уступает кинодивам своего времени: Валентине Серовой, Любови Орловой и т.д. Отец тоже был хорош собой: высокий, стройный, с ясными. выразительными, несколько иконописными чертами лица. Словом, красивая была пара. Жаль, что потомок получился не столь удачен.
Когда подоспела пора рожать, отец еще учился, и мама вернулась в Конёво под надзор родного семейства, где «для батюшки-царя родила богатыря». В одной умной книжке по биологии я прочитал, что «богатыри» рождаются совсем не в тучные годы, когда самки могут наслаждаться всем обилием углеводов, белков, жиров и витаминов. Напротив, в худые годы плод в утробе уже чувствует, что ждет его отнюдь не щедрый и ласковый мир, и потому вовсю запасает себе питательные вещества, естественно, за счет матери.
В 1948-49 годах в наших краях царил голод. Конечно, не такой как в Поволжье и на Украине в 30-е годы, но дело уже доходило до того, что бабушка пробовала готовить оладушки из лебеды. В результате все семейство чуть было не отправилось на тот свет. Нынче, когда я слышу по радио передачи о изумительных питательных свойствах этого растения (в 2015 году они почему-то шли особенно густо), я напрягаюсь: то ли нас готовят к полному и окончательному импортозамещению пищи, то ли вкусовые сосочки гурманов от СМИ пресытились вкусом заморских яств и жаждут новых ощущений. Нормальным людям экспериментировать не советую.
Как бы то ни было, я появился на свет ненастной осенью 1950-го года. Болел. Выздоровел. А тем временем отец закончил училище и получил первое назначение в войска. Вскоре и мы с мамой присоединились к нему. Вероятно, когда я стал более-менее уверенно ходить. Согласно семейным преданиям, случилось это довольно рано. Говорить тоже научился быстро и в года полтора уже вовсю декламировал Агнию Барто. Но, возможно, это аберрация маминой памяти. Родителям всегда свойственно приписывать отпрыскам недюжинные способности.
Тяжела судьба молодого офицера. Когда я сам служил в армии, мне больше всего было жалко не своего брата-рядового – мы по определению людьми не считались, а молоденьких лейтенантов, только что из училища прибывших в часть: начальство их в грош не ставило, а простые солдаты все время норовили сделать им какую-нибудь гадость. В прежние времена уважения к погонам было побольше, да и многие выпускники училищ имели боевые награды – с такими не забалуешь.
Но боевая задача – есть боевая задача, тем более, десантники как теперь, так и тогда оказывались в самых трудных местах. Отцовскую часть десантировали то на Украину, то в Белоруссию для разминирования обширных минных полей, оставшихся с войны – как наших, так и немецких. Мы с мамой жили в каких-никаких, но хатах, а отец с подчиненными ютился в полузатопленных партизанских землянках, куда их забрасывали с воздуха. Во время одной из таких командировок он сильно простудился, и с той поры у него стало пошаливать простреленное легкое. Но на первых порах это было не особенно заметно.
Мама тем временем училась у местных хозяек варить настоящий борщ, лепить вареники, делать галушки и картофельные оладьи. Позднее, уже на Алтае, она постигла и тайну настоящих сибирских пельменей, вкус которых мое семейство поминает до сих пор.
А чем занимался я? Наверное, просто рос. От тех странствий у меня остались воспоминания в основном о поездах, паровозах, железнодорожных станциях и общежитиях, заставленных длинными рядами панцирных кроватей.
Через какое-то время мы, наконец, осели на постоянном месте – в городе как бы названном в мою честь – Славгороде. Славгород стоит в Кулундинской степи, хотя по моим воспоминаниям это скорее пустыня или полупустыня, потому что перед глазами встают первым делом песчаные барханы, верблюды, колючий саксаул и шары перекати-поля. Нередки были и песчаные бури.
Долгое время я не задумывался: с какой собственно стати элитная воздушно-десантная часть оказалась в краю, от которого хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь? Задумался только а эпоху «гласности», когда среди прочей чуши появилась и информация для размышления. Оказалось, что город наш располагался в непосредственной близости от широко известного Семипалатинского полигона.
Вероятно (очень вероятно!), что десантники занимались его охраной и обеспечением. Кстати, в городе имелся военный гарнизон и большой военный аэродром, куда отец водил меня и показывал разные типы самолетов, в том числе и редкие тогда – реактивные. С той поры я это слово и знаю.
В начале 50-х годов – именно во время нашего там пребывания – на полигоне вовсю, чуть ли не с частотою в месяц, шли испытания ядерных зарядов – как открытые, так и подземные, — а 1953-м году была испытана первая водородная бомба.
Разумеется, тогда все это мне было не по уму, но задним числом вспоминаю, что некоторый запах ядерной опасности докатывался и до нас – штатских. Случалось, долго и надсадно выли сирены, и тогда не рекомендовалось выходить из дома. А еще в Доме Офицеров, куда мы с родителями (чаще с мамой) ходили в кино, часто показывали документальные фильмы о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Довольно-таки жуткие и натуралистические – меня до сих пор передергивает, когда они хоть и неясно, хоть с помехами всплывают в памяти.
Жили мы в Славгороде в военном городке. Отец служил. В чем заключалась его служба, я понимал неясно. Видел его только вышагивающим во главе взвода, и время от времени он отправлялся на тренировочные прыжки. Мама вела наше небогатое хозяйство и вместе с другими офицерскими женами занималась художественной самодеятельностью – плясала в каком-то ансамбле.
Время от времени – вероятно, по праздникам – сослуживцы устраивали дружеские попойки. Поскольку мальцов девать было некуда, то и они участвовали в общих посиделках. Я точно знаю, что кроме меня и другие дети там были, но совершенно никого не помню: видимо, и тогда я был изрядным интравертом. Дамы шелестели цветастым крепдешином и источали аромат духов «Красная Москва» (бывш. «Подарок Императрице») – до сих пор люблю этот запах. Мужчины блистали золотом погон и наградами на парадных мундирах. Почему-то больше всего они гордились неприметным синим значком с парашютом, на котором значилось число выполненных прыжков, хотя на мой взгляд были цацки и поэффектнее. Присутствовала и непременная гитара с пышным шелковым бантом. Мне, как регулярному участнику застолий, наливали рюмку вермута. Вермут я очень любил, но иногда путал это слово с «верблюдом». Так закладывался фундамент моего грядущего алкоголизма.
Однажды я чуть было не стал причиной тревоги всего гарнизона. Во дворе дома, где мы жили, стояла деревянная песочница, хотя песок и так лежал вокруг в достаточных количествах. Мама безбоязненно оставляла меня в ней, ибо деваться из военного городка – довольно обширного – было некуда: вокруг колючая проволока и КПП. И вот, выглянув очередной раз в окошко, она обнаружила, что любимого отпрыска нигде нет. Мама выскочила на улицу и обежала окрестные дворы, опрашивая всех встречных, не видели ли они мальчика в красной кепочке. – Бесполезно. – Тогда она помчалась в комендатуру, и вскоре из всех окрестных репродукторов загремели слова: Всех видевших в последнее время мальчика в красной кепочке, просим немедленно сообщить дежурному по гарнизону!
Виновник переполоха отыскался в ленинской комнате казармы, где квартировал отцовский взвод. Сам отец был где-то в очередной служебной отлучке, а солдатики развлекали его наследника, листая подшивки журнала «Огонек». Я же – в благодарность — стоя на столе, декламировал им стихи про Мишку, неудачно приземлившегося на пол, ставшего инвалидом, но, все равно, не утратившего людского расположения. Воины-десантники мне аплодировали.
Как это ни странно, я этот эпизод вполне помню. Не помню только, как я попал в казарму. От скуки, наверное.
Меж тем здоровье отца становилось все хуже: у него обнаружился туберкулез, или – по-старинному – чахотка. Все чаще он стал попадать в госпиталь на процедуру, называемую «поддувание легких» — не знаю, что это такое, — и, в конце концов, был демобилизован.
Полагаю, что это было для родителей тяжелым ударом. – Отец воспринимал армию, как осознанно выбранную Судьбу. Позднее, на гражданке, он стал покупать любую документальную литературу на военную тему и к концу жизни – говорят – собрал изрядную военно-историческую библиотеку. Помню, как он листал мутные сероватые иллюстрации и пытался объяснить мне разницу между танком и самоходной пушкой.
Мама, соответственно, теряла довольно уважаемое положение офицерской жены и должна была теперь тоже заботиться о денежном содержании семейства. Отцу назначили какую-то пенсию, но ничего особенного она из себя не представляла.
Нигде в обширной России их особенно не ждали. Ну, разве что, в умирающем Конёве. Мы всем семейством побывали там, но, вероятно, никаких перспектив не увидели. Поэтому решено было перебираться на родину отца, благо от Славгорода до Солонешного было значительно ближе, чем до Белого озера.
На Алтае у отца оставались какие-то родственники (сестры?), но они давно перебрались в областной центр – Барнаул. Так что быт наш в сравнении с кочевым офицерским бытом не особенно изменился: по-прежнему мы снимали комнаты у разных старичков и старушек. Отец устроился на какую-то работу в райисполком (районную администрацию), а мама стала на заказ шить платья местным дамам.
Не знаю, от кого она научилась искусству кройки и шитья, — скорее всего от бабушки, которая умела строчить на зингеровской машинке (приданном!) нехитрые деревенские одёжки. Бабушка даже сохранила секрет изготовления аутентичных косовороток. Именно в одной из них я и поехал в свое время поступать на физфак Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Средь прочего в моем гардеробе имелась очень потрепанная кожаная лётная куртка времен войны, кожаный летчицкий шлем, хромовые сапоги, белое шелковое офицерское кашне и соломенная шляпа… Но я, кажется, сильно забежал вперед. Поэтому вернемся на Алтай.
Итак, в доме у нас появились журналы мод с выкройками и толстая тетрадка, куда мама заносила параметры клиенток и делала наброски будущих нарядов. Мне ее рисунки очень нравились и, пожалуй, тогда я начал понимать, что картинки, которые украшают книги, в принципе являются результатом ручного труда каких-то неизвестных мне людей.
В памяти моей осталось не так уж много от нашей алтайской жизни.
Помню замерзших воробьев, падающих с веток. На реке Ануй отец ловил удочкой пескарей. Вместе мы ходили в Дом Культуры в кино. Там же имелся и книжный магазин, где я выбирал – не было особого разнообразия – «Алтайские народные сказки», а отец покупал что-нибудь военно-историческое со скучными и непонятными схемами каких-то сражений и рисунками оружия и солдат – это было поинтереснее.
Старичок, у которого мы одно время снимали комнату, научил меня делать водяные мельницы из куска кукурузной кочерыжки и нескольких лучинок. Весной, когда с гор начинали струиться обильные ручьи, мы расставляли их в различных концах двора и задумчиво созерцали их мерное вращение – стихию воды, преобразованную силой человеческой мысли. Из шести лучинок, без всяких гвоздей и клея он обучил меня складывать раскольничий крест. Могу воспроизвести и сейчас. Симпатия его ко мне, ребенку, объяснялась не только естественной тягой старого человека к детенышу, но и моим именем. Не знаю уж когда и где судьба сводила нашего хозяина с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым (партизанили вместе против Колчака?), но, приняв рюмку-другую, он, бывало, плакал у меня на плече, приговаривая: «Эх, Вячеслав Михайлович, Вячеслав Михайлович!» — Молотова как раз об эту пору сильно журили в рамках разоблачения культа личности Сталина. – Это я сейчас понимаю.
Очень яркие впечатления получил я, опрокинув на себя стоявший во дворе на керогазе бачок с кипятившимся бельем. Помню, как лежал я на холодной клеенке, а врач холодными щипцами снимал с меня лохмотья кожи. Но, видимо, ожог был не очень серьезным, потому что никакого следа от него не осталось.
Помню сияющую на горизонте вершину Белухи – самой высокой горы на Алтае.
Помню, как отец ловил пескарей в Ануе. Я их боялся: уж очень они напоминали змей, а к змеям у высших приматов врожденное отвращение. К тому же хоть и короткое время, но жил я на Белом озере и успел сформировать представление о том, как выглядит настоящая рыба.
Помню поездку на горную пасеку к какому-то знакомому отца. Мед в сотах мне не понравился, а вот соленые арбузы понравились и даже очень.
А еще в Солонешном я в первый раз видел призрака. Дело было зимой в наглухо законопаченной комнате. За окном в ярком свете полной луны сияли доходящие до окон сугробы. Ночью я высунул нос из-под одеяла и увидел посреди комнаты высокую красивую женщину в развевающихся белых одеждах. Повторяю: окна были заклеены на зиму, и сквознякам неоткуда было взяться. С другой стороны, призраки и не обязаны подчиняться обычным законам физики… Что бы вы сделали на моем месте? – Правильно. Вот и я поплотнее закутался в одеяло, сжал рукоятку деревянного кинжала, спрятанного под подушкой и… заснул. Но картинка эта ясно стоит перед глазами, словно дело было вчера. Кстати, второй раз я видел призрака в апреле 2017 года в палате интенсивной терапии Угличской районной больницы. Но это уже другая история.
Словом, все было бы хорошо, если с каждым днем не становилось бы все хуже. Родители стали часто ссориться. Причиной этих ссор зачастую становилась моя скромная персона. Однажды, собираясь на прогулку, отец, возмущенный моей штатской неорганизованностью, шлепнул меня галошей. Я этот эпизод воспринял как должное, и моментально забыл. Но мама поминала его при всяком удобном, а особенно неудобном поводе.
Скажу тут, кстати, несколько слов о телесных наказаниях. Одно время очень модным было рассуждать о свободе и либерализме российского дворянства девятнадцатого века — дескать, «первое непоротое поколение», а, следовательно, люди неслыханного благородства и чувства собственного достоинства.
Рассуждения эти, как и большая часть того, о чем долдонили глуповатые прорабы перестройки, были очередной ложью. Разумеется, кому-то везло больше – любящие родственники сдували пылинки с ненаглядных чад, но в массе своей розга являлась главным орудием воспитания даже в самых благородных семействах.
Ивана Сергеевича Тургенева, например, мамаша лупила смертным боем просто так. А если великий писатель спрашивал: «За что, маменька?!», отвечала: «Было бы за что, вообще убила бы!»
Затем почитайте «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина. Могу назвать и другие литературные источники.
Да и само «солнце нашей поэзии» А. С. Пушкин обихаживал розгами своих отпрысков, начиная с двух (!) лет. Знать, и сам он знал пользу этого старинного дедовского средства.
А вот в нашем семействе телесные наказания были не приняты: ни тетушки, ни дядюшка никогда не упоминали о родительском свирепстве. Да и вообще не помню, чтобы в Конёве слышались вопли моих истязаемых ровесников.
Разве что могу рассказать по этому случаю исторический анекдот, услышанный от бабушки. Кто-то из ее старших родственников (дядя?) отслужил в солдатчине 25 лет, вышел в отставку, женился и стал вместе с молодой женой заниматься мирным хлебопашеством. В быту он был человеком тихим и нескандальным, но, когда видел в супруге некоторое неудовольствие или упущение по хозяйству, спокойно говорил ей: «Маня, топи баню». Маня беспрекословно повиновалась, а муж вырезал в ближайшем ракитнике несколько розог, запаривал их кипятком, а потом выдавал жене положенное количество ударов, в соответствии с собственным понятием о нарушении хозяйственного устава. Дальше до определенного момента они снова жили душа в душу.
Однако, вернемся на Алтай. Как-то раз отец принес мне шикарный подарок: электрическую железную дорогу. Целый вечер мы развлекались с ним, гоняя составы по разложенным на полу рельсам. А на следующее утро дорога исчезла: вероятно, мама сочла ее непомерно дорогой, и отец вернул ее в магазин. Ну я не особенно и горевал, мне всегда были милее простые и универсальные игрушки, желательно военного свойства: пистолеты, мечи, кинжалы, при некотором воображении могла сгодиться и просто палка.
Родительские ссоры продолжались. Поводов для неудовольствия супругов найти не трудно, труднее смиряться и понимать.
И, разумеется, главным неустранимым поводом была отцовская болезнь. Туберкулез к этому времени стал уже не роковым диагнозом, но все еще оставался болезнью опасной и заразной. И мама по-прежнему заботилась прежде всего о моем здоровье, а шишки сыпались на отца. Постепенно в домашних скандалах стал появляться и мотив ревности.
Я это плохо понимал, да и сейчас не имею охоты разбираться. Короче, родители решили разъехаться. Именно разъехаться, а не официально развестись. Почему они выбрали такой путь? – Может быть, еще надеялись воссоединиться? – Бог весть.
Итак, в один ясный, но не самый прекрасный день, мы погрузились в кузов старой раздолбанной полуторки и покатили в сторону ближайшей железнодорожной станции – города Бийска – это примерно 150 километров по пыльным степным предгорным дорогам. В кузове вместе с нами тряслись еще несколько фанерных ящиков с багажом. – Видимо, какое-то хозяйственное имущество мы за эти годы накопили.
Надо сказать, что лет до 12-ти меня страшно укачивало в любых колесных повозках (но не на воде). Поэтому моральные терзания из-за расставания с отцом в значительной степени тушевались перед физическими муками, выворачивавшими наизнанку мой желудок.
Настоящее чувство совершающейся трагедии настигло меня, уже когда мы с мамой сидели в поезде, а за пыльным окном маячило задранное, но одновременно как-то опущенное лицо папы. Тогда я видел его последний раз в жизни. За время, прошедшее после демобилизации, я уже как-то привык, что нас всегда трое – и вдруг…
Из дали времен кажется: не такая уж большая драма – развод – дело житейское, но и сам я тогда был не так уж велик…
Сели, поехали. И всю дальнейшую дорогу оторвать меня от материнской юбки не было никакой возможности: я впадал в истерику или ступор, если мама выходила на перрон за кипятком (кипяток тогда набирали на станции из огромных кипятильников – кубов), за огурцами, яйцами или вареной картошкой – немудреной снедью, которой торговала разоренная войной деревня. В конце концов она стала брать меня с собой. Помню даже, как, заплутав, мы ползали под составами, чтобы найти родной вагон. А еще я очень стал бояться железнодорожных мостов. Когда поезд, окруженный грохотом и мельканием железных балок, мчался над очередной великой рекой, я предпочитал переживать эти тягостные минуты, закрыв глаза или с головой укутавшись одеялом.
Из путевых достопримечательностей той поездки мне запомнился на каком-то полустанке седобородый богатырь в гимнастерке, на которой красовались 4 Георгиевских креста. Всякие другие знаки отличия были мне не в диковинку, но таких я еще не видел: как раз в ту пору было разрешено носить и награды Первой Мировой, во всяком случае солдатские. Необычность их меня и поразила.
Последняя часть нашего многодневного путешествия на родину протекала на пароходе, ибо, как уже говорилось, иным путем туда было не добраться. На пароходе я чувствовал себя гораздо лучше, чем в поезде. За бортом неспешно сменялись незатейливые северные пейзажи, плыли другие пароходы и самоходные баржи, трудолюбивые буксиры тянули караваны гонок. В ту пору жизнь на Волго-Балте была куда более оживленной. А шлюзование в осклизлых деревянных шлюзах! – Помянем имена уже полузабытых царей и цариц.
Мы с мамой плыли в какой-то многоместной каюте, но большую часть времени я проводил на палубе или, лазая по трапам везде, откуда меня совершенно откровенно не гнали. Рядом с выходом возле теплой пароходной трубы сидел безногий солдат в выцветшей гимнастерке с какой-то одинокой медалью. Рядом лежала шапка, на дне которой лежала небогатая россыпь мелочи…
В начале наших семейных военно-полевых странствий инвалидов на транспорте было довольно много. Они пели жалостливые песни под гармошку, просто просили милостыню, торговали какими-то фотографиями – подозреваю, что это была тогдашняя порнография. Но к описываемому периоду инвалидов стали отлавливать, чтобы они не портили вид возрождающейся из руин страны. Наиболее неприглядных и бездомных вообще рассовывали по отдаленным монастырям, превращенным в специальные поселения. Наш пароход как раз приближался к Горицкому женскому монастырю, где безногий солдат, видимо, и должен был найти место последнего успокоения.
«Сердце мое уязвлено стало»… Весь в слезах я отыскал маму и выпросил рубль. Она удивилась – до сих пор я не стремился вступать в товарно-денежные отношения, но рубль дала. Я устремился на палубу и еще до того, как пароход причалил, успел сунуть свою добычу в шапку ветерана. Сунул и стыдливо смылся. Подавать милостыню мне и теперь бывает стыдно: дающий словно бы демонстрирует некое превосходство перед берущим. А это не так. Поминать собственные благодеяния неприлично, но я до сих пор помню безучастный взгляд безногого инвалида, и мне становится стыдно за все более разухабистые праздники в честь ЕГО победы.
Как мы приехали и как разместились в родной избе, я совершенно не помню: просто началась другая жизнь. Поэтому могу с чистым сердцем приступить к самому общему описанию моей малой родины.
Берега Кемы вообще не высоки, но Конёво стояло на том самом берегу, чей уровень в разгар лета еле-еле возвышался над уровнем воды. Так что прибрежная полоса шириной метров в 50, представляла собой просто полосу грязи разной степени твердости в зависимости от погоды и времени года. Чтобы передвигаться по деревне более или менее сносно, вдоль берега были проложены деревянные мостки на сваях. Довольно высоко — на метр и более того. Перпендикулярно основной «дороге» возле каждого дома имелись отмостки – одни вели к крыльцу, а другие к урезу воды, где качались на волнах довольно массивные плоты, которым были привязаны лодки. На плотах также стирали, отбивали вальками крепкое холщевое белье, удили, загорали и просто брали воду. – Другой питьевой воды, кроме как из реки, в Конёве не было.
Из-за многолетнего сплава и осевших на дне топляков вода в реке имела слегка коричневатый чайный оттенок. Плоты крепились по бокам сваями, а за дно не держались, поэтому опускались или поднимались в зависимости от уровня воды. В особо водные годы под водой оказывались и мостки, и тогда лодки привязывались к крыльцу, и люди ездили в гости, соответственно, каждый в своей «карете».
Те же самые деревянные тротуары имелись и в сопредельных поселках, но только в Конёве они являлись главной прохожей улицей. Упомяну тут связанный с ними эпизод, рассказанный мамой. Будучи еще полноценной семьей, мы гостили у бабушки с дедом в отпуске. И пошли к кому-то в гости: отец в полной парадной форме, мама тоже вся из себя дама. Даже я в изящном картузе с цветочком и бантиком на груди (года 2 мне тогда было). И вот я вместе с картузом, бантиком и цветочком оступаюсь – мостки были сложены не самыми аккуратными плотниками – и падаю вниз. И натурально грязь меня засасывает. И тут в грязь сигает мама, а отец, неоднократно прыгавший на землю с заоблачных высот, остается вытаскивать нас за руки. Мораль: никакая степень военно-политической подготовки не заменит материнскую самоотверженность.
Вслед за порядком изб, вытянувшихся в более или менее ровную линию вдоль реки, начинались поля. Точнее сказать, бывшие поля, о чем напоминали глубокие мелиоративные канавы, впадающие в Кему. Ныне же эти поля были покрыты малополезной болотной травой: хвощами, осокой и т.д. За полями тянулась синяя линия леса, который оказывался при ближайшем рассмотрении скорее болотом с чахоточными сосенками и елками. Никаких белоствольных берез, отрады поэтов, вблизи Конёво я не помню. Росли, правда, еще прибрежные ивы, ольха да черемуха. А у нас под окнами стояла даже яблоня, откопанная дедом где-то в лесу. Она стойко переносила и морозы, и наводнения, и даже регулярно давала урожай, но плоды, увы, были совершенно несъедобны даже на невзыскательный вкус деревенских пацанов.
Весенняя вода затопляла окрестности вплоть до леса. Но зато и лед на мелководье сходил гораздо раньше. Кема была еще скована льдом, а мы, пацаны, уже бороздили поля на лодках, катались на случайных льдинах и открывали купальный сезон чуть ли не в начале апреля. Искупаться как можно раньше было нашим делом чести, доблести и славы. Родители, естественно, не одобряли этот благородный почин, опасаясь простуд. Но мы были практически неуловимы: во-первых, купались без трусов, а во-вторых, прежде чем возвращаться домой, мы заплывали в чью-либо баню, где тщательно вытирались старыми сетями либо какой-нибудь ветошью. Да и не болели мы в общем-то.
Бани из-за их особой пожароопасности группировали на самом берегу, несколько в стороне от деревни, но это не было таким уж обязательным правилом. Некоторые ставили бани на задворках собственной усадьбы.
Когда вода весеннего потока начинала спадать, обнаруживалось, что деревня состоит не только из домов, лодок и мостков. Между избами обнаруживались огороды, окруженные заборами из массивных досок и горбылей – отходов кипящей вокруг лесоперерабатывающей деятельности. Имелась и сложная система прогонов для скота, но сооружалась она из жердей и легко разбиралась в нужном для прогона месте.
Египтяне – счастливые люди: разливы Нила доставляют им естественные удобрения – ил. Разливы Кемы, напротив, смывали с наших огородов и без того тонкий слой гумуса, оставляя лишь синеватый суглинок, в котором снова с муравьиным упорством приходилось закапывать скопившийся за зиму навоз или таскать из ближайших ольховых зарослей ведра с листовым опадом. Не буду преувеличивать собственные сельскохозяйственные подвиги, но я старался помогать.
Кстати, когда мы с мамой прибыли на ПМЖ в Конёво, бабушка отнюдь не коротала дни в одиночестве: тетя Тамара с мужем жили в Запорожье, но тетя Аня заканчивала десятилетку (первая в нашем роду), Лиля готовилась поступать в финансовый техникум, Валерий, закончив какое-то училище ФЗУ, работал электриком, а по большей части в компании друзей допризывников догуливал последние вольные денечки перед солдатчиной.
До поры до времени, не имея друзей среди сверстников, я вынужден был примкнуть к этой развеселой компании. Сохранились фотографии, где дядюшка и прочие его друзья, все на подбор высокие и чубатые, стоят в обнимку, а среди них, едва доставая любому из них до бедра, я – приличный мальчик с челочкой и бантиком на груди. Нельзя сказать, что компания была подходящей приличному ребенку, но на танцульки и гулянки они меня не приглашали, зато мы часто плавали на лодке в поселок Андреевский на пристань, где в местной столовой случалось разливное пиво, доставляемое рейсовыми теплоходами. Мушкетеры брали себе по большой кружке пива и чего-нибудь покрепче, а мне полагалась маленькая – 0.25 литра. Так мы и просиживали некоторое время, ведя неспешные мужские беседы. Теперь я понимаю, что велись они на нормальном русском, а не на матерном языке, потому что материться я так и не выучился.
Дядюшка Валерий слыл у нас в деревне главным технократом. Вместе с друзьями он приволок из леса длиннющую еловую жердь, которая стала антенной первого в Конёве лампового приемника. Старый картонный репродуктор был выкинут как символ отсталости. Я, правда, успел отодрать от него магнит – вещь в хозяйстве не бесполезную. Чудо техники было установлено на полке в красном углу, где, как я понимаю, раньше была божница. Поскольку постоянного электричества у нас не было, питался приемник от связки тяжелых батарей, которые тоже стали украшением красного угла. Когда батареи окончательно высохли, а Валерий уехал, чтобы послушать что-либо, мне приходилось забираться на стол и, стоя на цыпочках, прикладывать ухо к массивному эбонитовому корпусу.
А уехал Валерий отнюдь не в армию, как ожидалось, а завербовался добровольцем на освоение дикого Северо-Запада, точнее сказать, Карелии. После войны Советский Союз отхватил от Финляндии чуть ли не три четверти ее прежней территории, которую теперь приходилось заселять и хозяйственно осваивать. Добровольцы от армейской службы освобождались, и для начального обзаведения им даже выплачивались какие-то деньги. Но еще до того, как превратиться в культуртрегера дикой финской тайги, дядюшка успел стать в Конёво пионером маломерного флота: купил первый в деревне подвесной лодочный мотор. Назывался он «Чайка» и имел мощность в полторы лошадиных силы. Лодки в наших краях строились из досок – крепкие и тяжелые, чтобы в случае чего и корову можно было перевезти, и чуть ли не стог сена. Так что особой скорости малая механизация не добавила. А с другой стороны, много ли пользы приносят на российских дорогах автомобили в 200 или 300 лошадиных сил?
Вообще в Конёве можно было рыбачить везде: хоть даже с крыльца или в поле. Поэтому рыбалка серьезным делом не считалась и была каким-то междудельным занятием. Поставить утром пару мережей, закинуть сетку или удочку – дело было обычное. Но рыбак не был бы рыбаком, если бы не мечтал о некоем Настоящем улове. Вот и дядюшка однажды соблазнил меня на Настоящую рыбалку. Вообще-то удить рыбу я не любил: во-первых, мне не нравилось насаживать на крючок червяка, а во-вторых, снимать с крючка рыбу, особенно сопливых и колючих ершей. Но кто еще в юные годы способен отказаться от Настоящего приключения?
На самом деле Валерию, по-моему, просто хотелось испытать мореходные качества нового мотора, а делать это в отсутствие свидетелей как-то не комильфо. На худой случай в качестве восхищенного зрителя годился и племянник. И вот, захватив несколько удочек и банку червяков, но ни кусочка хлеба, мы поехали в сторону Белого озера. Идея была такая: выйти из устья Кемы, немного пройтись по озеру и свернуть в устье некой безымянной речушки, просто кишащей рыбой.
Первая часть плана нам вполне удалась – речушку мы нашли, и она действительно кишела… ершами. В сущности, наживку можно было и не брать, ерши бросались на голый крючок. Изредка попадалась и приблудившаяся сорога – так в наших краях называли плотву.
Мы без устали дергали ершей и уже покрыли сопливым покрывалом дно лодки, а меж тем стало смеркаться и подул сильный и совсем не попутный ветер. Надо сказать, что Белое озеро не очень большое (примерно 60 на 60 км), но со всех сторон оно не прикрыто ни высокими берегами, ни лесами, и поэтому ветер успевает нагнать на этом пространстве изрядные волны. Короче, на Белом озере случаются штормы.
Вот и нас, когда мы стали выбираться в озеро, чтобы вернуться в устье родной Кемы, подхватило ветром и понесло в открытое море – назовем его так. Совсем стемнело, да откуда-то еще пришла совсем непредусмотренная гроза. Мотор заглох. Валерий взялся за весла, но это дело был уж совсем пустое, разве что помогало держаться носом к ветру, чтобы лодку не опрокинуло особо мощной боковой волной. Кругом сверкали молнии, высвечивая пенные гребни. Не помню, чтобы я плакал или вообще боялся. Свернувшись калачиком в носу лодки я пытался согреться, к тому же очень хотелось есть и спать. Я и заснул.
Среди ночи нас подобрал рыболовецкий сейнер. Не знаю, как уж он просто не протаранил нас – вероятно, имел какой-то прожектор, у нас-то никаких ходовых огней не было. Сонного меня подняли на борт, дали горячего чаю с хлебом и уложили спать, укрыв грудой промасленных ватников и бушлатов (промасленных, потому что помню их запах). Лодку взяли на буксир, а Валерию, вероятно, сказали большое количество непереводимых идиоматических выражений.
Поутру нас высадили в устье Кемы. Ветер уже стих, и мы своим ходом добрались до Конёво. Не помню, чтобы нас дома корили за ночное приключение, а может быть, дядюшка и не сказал, где мы были. Зато друзьям за кружкой пива он очень ярко живописал наш беспримерный героизм. Я же тянул свое пивцо и важно кивал.
Раз уж я затронул тему рыбалки, то ее и продолжу. Рыбу, как я уже сказал, мои земляки ловили походя, но много. Из нее варили уху, жарили, тушили, а всякую мелочь, не разбирая по сортам, сушили в русской печке до слегка золотистого состояния – это называлось сущик. К зиме в исправном хозяйстве этого сущика заготавливали мешки. Есть его можно было как семечки, которых, кстати, в наших широтах тогда не водилось, а можно было варить супы. (Последний раз — лет 30 назад — я встречал сущик в городе Олонец, где некогда губернаторствовал Г.Р. Державин. Он продавался в бумажных пакетах, на которых так и было написано: СУЩИК. Умилило до слез). Большую рыбу типа лещей и щук целиком запекали в пироги, причем самым вкусным в этих пирогах была поджаристая ржаная корка, изнутри пропитанная рыбьим жиром, а любители и саму рыбу разбирали по косточкам. Еще почему-то в те времена была дешева бочковая соленая треска. Ту тоже закупали на зиму в больших количествах, но треска как рыба морская, бескостная шла в основном на салаты, если можно назвать салатом кусочки рыбы, перемешанные с картошкой, яйцами и луком, и залитые постным маслом.
Никакой зимней рыбалки мои земляки не знали. Буров тогда не было в заводе, а долбить метровый лед пешней, чтобы потом морозить задницу над лункой ради нескольких хвостов, нашим мужикам казалось несколько странным. Так что эту забаву они оставили бездельникам из будущих поколений.
Но было в году два момента, когда рыбный азарт охватывал мужское население от мала до велика. Поздней осенью, когда тонкий прозрачный ледок образовывал вдоль берегов достаточно широкую и толстую кромку, способную выдержать человека, и мужики и пацаны отправлялись на налимью охоту. Не знаю налимьих обычаев и повадок, поэтому не могу объяснить, почему с наступлением холодов эти рыбы как бы в раздумье застывали вдоль берегов. Задача охотника заключалась в том, чтобы, издали заметив такого философа, тихо подкрасться к нему и нанести мощный удар обухом топора где-нибудь в районе головы. Оглушенный налим на какую-то минуту-другую так и оставался на месте, и за это время надо было прорубить топором лунку и вытащить добычу на лед. Сезон охоты был совсем недлинный, до первого снега, после которого подо льдом уже ничего нельзя было разглядеть.
Поводом для другой массовой охоты был нерест знаменитого белозерского снетка. Когда эта мелкая нежная и очень вкусная рыбешка бросалась в устье окрестных речек, чтобы в соответствии с зовом природы отложить икру, флотилии лодок с обоих берегов Кемы устремлялись ей навстречу. Снетков черпали просто большими сачками, сделанными из марли, и сваливали прямо на дно лодки. Зачастую марля не выдерживала тяжести улова и рвалась, и тогда неудачники-рыбаки использовали в качестве рыболовной снасти собственные рубахи, другие тряпки, даже собственные штаны. С удовольствием ели и свежежаренный деликатес, но большую часть улова сушили, а потом в течение года варили супы. Очень хорош был снеток в окрошке, да и просто как закуска, тем более, что в отличие от сущика в снетке костей не приходилось опасаться. А вот селедку с лучком я помню только как праздничное блюдо. Но хватит о рыбе.
По мере того, как спадала вода и пригревало солнышко, Конёво на глазах облагораживалось. Оказывалось, что это не просто узкая полоска суши, чуть торчащая над водой, а есть здесь и свои бугорки, и впадинки, и текущие в Кему ручьи. Кое-где зеленели купы деревьев, на бугорках проклевывалась травка, и они превращались во вполне твердые и достаточно обширные плацдармы для ребячьих игр. На них даже обнаруживались свои игровые сооружения, сработанные грубыми, но надежными руками местных плотников. На деревянных качелях можно было взлетать чуть ли не на пять метров, только держись. Были и гигантские «шаги» — высокое вертикальное бревно с вращающимся тележным колесом наверху. К ободу колеса были привязаны веревки, и, уцепившись за них, можно было скользить над лужайками, заросшими мать-и-мачехой, одуванчиками и прочей бесполезной растительностью. Разбросанные ледоходом бревна, коряги, доски создавали множество других аттракционов и укрытий: в детстве не существует предмета, который нельзя было бы использовать для игры. Даже полоса прибрежной грязи как-то уровнялась, затвердела и стала уже не грязью, а чем-то вроде глинистого пляжа.
Но прежде, чем вписаться в игру, надо было как минимум войти в местное общество. Известно, что молодежные компании объединяет прежде всего мода. Уловить коневские модные тенденции было нетрудно: если светит солнце, общей униформой были трусы и майка, если стало чуть холоднее, возможны рубашка и штаны (по возможности заплатанные). Главная форма обуви была – босиком, но по погоде возможны были какие-нибудь ботинки или кирзовые сапоги.
Чтобы полноправно войти в местное светское общество, мне приходилось бороться прежде всего с мамой. Из обрезков ткани, остававшейся от заказов, она мастерила мне штанишки на лямочках и какие-то замысловатые курточки. Одно время – о позор! – мне даже приходилось носить чулки, пристегнутые резинками к лифчику. Разумеется, в Конёве все это было неприемлемо. Лямочки, бантики и прочие финтифлюшки я отвергал с помощью заливистого рева, новенькие сандалии прятал, и постепенно полностью слился с окружающей средой. Выдавала меня только челочка, эдакий оселедец на лбу. И откуда взялась эта странная запорожская мода?
Итак, я стал конёвцем, кем и был по праву своего рождения. В результате обнаружилось, что в деревне нас, пацанов, десятка полтора, причем все более или менее равного возраста. А девчонок почти не было. Видимо, в нашем поколении природа возмещала военные потери в мужском населении. Нет, все-таки три-четыре девчонки было, но кто их за людей считал? Поэтому они вели себя скромно и в глаза не бросались.
С появлением сухих полянок появлялась возможность для традиционных народных игр: пряток, догонялок, лапты, свайки, 12 палочек и т.д. Были еще городки, но они почему-то считались взрослой игрой. Наверное, потому что у нас, малолетних, не было достаточно сил метнуть биту, так что тут мы выступали болельщиками. Пытались мы играть и в футбол, но настоящего мяча у нас не было, а обыкновенные двухцветные резиновые мячики при нашем игровом темпераменте быстро превращались в лохмотья. Самой универсальной игрой была, конечно, «войнушка».
Всяких досок и деревянных обрезков в каждом доме было предостаточно. Из них-то в меру своих способностей (счастлив был тот, у кого дома водились взрослые мужчины) мы и мастерили свои арсеналы: пистолеты, пулеметы, автоматы и массу холодного оружия. А у меня лично было даже собственное чудо-оружие вроде немецких ракет ФАУ-2 или американской атомной бомбы. Время от времени, роясь в многолетних завалах на чердаке, я обнаруживал всё новые и новые сокровища, и среди них два совершенно настоящих одноствольных ружья, а к ним штук двести снаряженных латунных гильз, то есть патронов. Дед, по-видимому, не занимался на досуге отстрелом членов Комитета бедноты и селькоров, а просто охотился и, несмотря на режим тирании, царивший в СССР, никто ему в этом деле не мешал. Даже охотничьего билета у него не было, да и слово «браконьер» в наших диких краях не знали.
Своей находкой я поделился с дядей Валерием – не с женщинами же! Кажется, тогда в Конёве был и отец, значит, я был еще совсем маленький. И отец, и дядюшка от безделья стали готовить из меня снайпера. На задворках на стене старого полуразвалившегося сарая были вывешены газеты, расчерченные угольными кругами. Меня научили заряжать ружье – наука нехитрая, целиться и нажимать курок. Отдачей меня отбрасывало метра на три, а поле боя устилалось клубами дымного пороха – у деда другого не было. Когда эта военная забава старшим родственникам надоела, ружья снова припрятали, и снова я их нашел уже после окончательного возвращения в Конёво. Теперь я в доме был единственным мужчиной и справедливо полагал дедовский арсенал моим собственным наследством. Для игр в «войнушку» я брал то один, то другой ствол (без патронов) – на это уже ума хватало. Но оказалось, что, хотя настоящие ружья очень эффектны и вызывают зависть, но легкие деревянные автоматы гораздо удобнее в игрушечном бою. Однако мои посягательства на дедовское охотничье снаряжение (был там и патронташ) не прошли незамеченными моими дамами, и скоро ружья испарились в неизвестном направлении: вероятно, были проданы или подарены знатоку-любителю. Впрочем, от женщин трудно ожидать досконального понимания огневого боя: ружья, патронташ и патроны исчезли, но зато осталось несколько коробок дроби и пороха. Позднее, когда я немного подрос и стал что-то понимать в сущности реактивного движения, я раздал ненужную дробь друзьям на грузила, а порох сполна использовал для изготовления ракет. Причем дымный старинный порох для этого годился гораздо лучше, чем новомодный бездымный, как я убедился впоследствии.
И наконец нельзя не упомянуть о главном нашем деревенском сокровище, вызывавшем зависть как кемских, так и андреевских пацанов. Представление о деревенских жителях, всю зиму проводящих на печи, существует лишь в головах просвещенных горожан. Помимо текущих работ, как то заготовление дров, расчистка прорубей и дорожек, в каждой деревне существует еще собственный зимний промысел, приносящий в домашнюю кубышку чуть ли не больше, чем труд на земле. В одних деревнях делали сани, в других лепили горшки, в третьих катали валенки или плели корзины. Недавно в одной старой статистической книжке я прочитал о промысле вовсе экзотическом: жители двух уездов Ярославской губернии зимой… изучали иностранные языки. А летом отправлялись в Кронштадт, Нарву, Ревель, Питер, где выступали торговыми посредниками и толмачами.
Конёвские мужики делали барки. Барки или баржи – это несамоходные суда для перевозки грузов (смотри картину Репина «Бурлаки на Волге»). Но баржа, изображенная на ней, большая, именно на таких доставляли хлеб со среднего и нижнего Поволжья, но только до Рыбинска, а далее уж хлеб следовал по трем разным водным системам: в Питер-столицу, в Москву, и на север. Поэтому Рыбинск был центром русской хлеботорговли, где заключались уже конкретные сделки, где зерно да и другой груз перегружались на не такие вместительные, но более проходимые барки местных мастеров, в частности конёвских.
Вот зимой наши мужики и конопатили такие барки, надеясь только на крепость кованных барочных гвоздей и гидронепроницаемость смоленой пакли. Изготовив несколько таких барок, конёвцы отправляли их караванами в Рыбинск, а уж дальше они расползались по всей стране. Поскольку доставлять их обратно не было никакого резону, то в пунктах назначения их чаще всего разбирали на дрова.
По мере развития парового и дизельного судоходства барочный промысел захирел, и наша деревенская верфь превратилась в кладбище деревянных левиафанов, очень удобное для игры в прятки.
Но главным бриллиантом Конёвский короны, на который с завистью поглядывали и кемские, и андреевские пацаны, был лежащий на берегу большой моторный катер или даже теплоход. Вероятно, он являлся пионером местного моторного судоходства, потому что корпус имел деревянный и сильно побитый. Но всё остальное было на месте: штурвал, колокол – рында и, главное, двигатель. Сам по себе двигатель был нам ни к чему, но в его конструкцию входило множество медных трубок разной толщины – незаменимый материал для изготовления разного рода самопалов – поджиг. Самопалы эти были орудиями небезопасными, но прежде всего для своих владельцев, ибо имели привычку взрываться в руках. Но, слава богу, никаких серьезных травм в нашей компании не было. Я лично вообще сторонился этих орудий, ибо, будучи монопольным обладателем запасов пороха, предпочитал совершенствовать технику ракетостроения. Но кемским и андреевским пиратам наши богатства не давали покоя, и нам не раз приходилось отбивать их набеги, которые обычно осуществлялись эскадрами лодок. Однажды во время такой вылазки мы даже захватили пленника и заперли в одной из кают, скорее даже чуланов, на корабле. О существовании Женевской конвенции по обращению с пленниками мы и слыхом не слыхивали, но обращались с нашим узником совершенно в соответствии с ее духом: выдали бутылку воды, краюху хлеба и кочан капусты, украденный с подсобного леспромхозовского хозяйства. Через несколько часов он нам надоел, и пришлось даже перевезти этого бедолагу на другую сторону реки – на родину, ибо в стане врага, похоже, совсем не заметили потери бойца.
Как-то зимой к вящей зависти наших соперников на нашем берегу был выгружен караван разборных финских домиков, которые помаленьку вывозились потом на место, намеченное под строительство нового поселка лесозаготовителей. Так у нас появился собственный средневековый город с лабиринтами улиц, башнями и висячими мостами. Словом, было где полазить, поиграть, потешить силу молодецкую. Но вообще наши главные летние занятия из-за краткости нашего северного лета были связаны с водой. Мы целыми днями, если позволяла погода, купались, загорали, ныряли, ползали по неструганным дощатым мосткам и снова купались. Делом чести, доблести и славы было искупаться больше других. Но в этом своеобразном соревновании было неукоснительное правило – в перерывах между купаниями трусы были высохнуть, иначе купание не засчитывалось. Можно было несколько приврать, ведь не всегда же ты находишься на людях, но все прекрасно знали, что больше 12 полноценных заплывов в день сделать трудно. Естественно, при таком общественном настрое плавать в деревне умели все. Лично я помню, как однажды я резвился на мелководье, изображая заправского пловца, как ноги заскользили по крутому глиняному уклону вниз. Захватив пару «огурчиков» – так это называлось – я понял, что пора бороться за жизнь и энергично задвигал руками и ногами. На берег я вышел, уже умея держаться на воде, но это было, естественно, только начало. На воде надо держаться экономично, не теряя все силы на энергичное, но неэффективное бултыхание. На смену собственному собачьему стилю приходит лягушачий, а там и саженки. Когда каботажные плавания вдоль берега становились достаточно продолжительными, наступал новый этап.
По Кеме, как я уже говорил, буксиры тянули длинные плоты – гонки, населенные веселыми лесосплавщиками – тобиками. Тобики вызывали у нас жгучую зависть: и не своими просторными шалашами и развешенным на них бельем, и не кострами, всё время дымящимися на железной плите, от которых всегда очень вкусно пахло свежесваренной ухой или по сезону грибною похлебкою — известны они были и вороватостью – эти водоплавающие странники, не уступавшей цыганам, которых у нас не водилось за отсутствием дорог. Однако главное – они двигались к неизвестным берегам и сторонам. Нам же эта плавучая муза дальних странствий служила подспорьем в освоении водной стихии. Рано или поздно, почувствовав в себе должные силы, мы доплывали до гонок и, немного передохнув на ее бревнах, отчаливали восвояси.
Следующий этап – не возвращаться, а переплыть на другой берег и там уже дожидаться другой гонки. И наконец, без отдыха переплыть от берега до берега. Благодаря такой ежедневной тренировке все наши деревенские ребята (и девчонки) вполне были жизнеспособны к существованию на воде и не боялись утонуть, хотя иногда тонули. Не помню, чтоб кто-нибудь из поселка Кемского плавал на наш берег. Может быть, из-за близости цивилизации и надзор над ними был построже.
Кроме обычных игр, рыбалки, купания, были у нас и небольшие сухопутные экспедиции. В полукилометре от берега вода упиралась в непроходимые болота, куда мы соваться особенно и не осмеливались. Да и что там делать? Но и в болотах случались небольшие возвышенные островки, где можно было пощипать немного земляники, черники и княженики. Редкие тропинки туда были нами разведаны и пользовались популярностью. Можно было дойти и до леспромхоза, несмотря на снующие туда и сюда трелевочные трактора и горы маленьких чурочек для газогенераторных двигателей. Но там нас не особо привечали – скопление техники было действительно опасным, да и неуютно там было – в реве моторов и сизых облаках дыма, после деревенского покоя.
Уже понятно, наверное, что никто в Конёве за подрастающим дошкольным населением не следил, да и куда бы оно делось. Захотят поесть, так и сами домой явятся.
Коли я упомянул об отдельных островках суши, встречавшихся в нашем болоте, неправильно было бы не рассказать о главном из них – кладбище. Разумеется, покойников в торфяную жижу никто не кидал, хотя по последним данным науки там бы они сохранились в лучшем виде и радовали бы этим видом новые поколения археологов. Хотя как знать, в половодье гробы могли и всплыть.
Нет, всё было пристойно и даже красиво: среди болот, видимо, еще дальние предки конёвцев отыскали довольно высокий и обширный бугор. Другое дело, что добраться до этого места упокоения, особенно летом, было совсем непросто. Не знаю, были ли собственные погосты в Кемском и Андреевском поселках, но мне помнится, что похороны проходили в основном на нашей стороне. Выглядело это так: из-за какой-нибудь речной излучины, а чаще просто с противоположного берега появлялся караван лодок. На первой алым кумачом красовался гроб, последующие лодки топорщились еловыми венками. Напоминаю, никаких лодочных моторов еще не было и мерные взмахи весел подчеркивали торжественность церемонии, напоминая времена чуть ли не варяжские (это я говорю задним числом, ибо тогда о варягах слыхом не слыхивал).
Лодки причаливали у самого высокого конёвского берега – именно здесь начинался зимний тракт, торная дорога-лежнёвка или гать. Дорогой даже по российским меркам лежневку назвать трудно. В сущности, это набросанные более или менее систематически бревна, тут же и срубленные. Сколько их ни есть, под тяжестью тракторов они всё равно уходили в торфяную жижу, образуя более или менее обозначенную полосу с относительно твердым и сучковатым дном. Зимой это, конечно, замерзало монолитом, но летом…
Итак, гроб на суше перегружали на тракторные сани – это такая мощная конструкция из двух обтесанных бревен и нескольких поперечин. В принципе, она обладает даже некоторой плавучестью. Венки и родственники по возможности тоже располагались в санях. Ну а дальше… помогай им бог.
Мне лично не доводилось провожать на погост никого из ближних. Деда похоронили без меня. Но был в году один день, когда все жители от мала до велика совершали паломничество к родным могилам. Вероятно, день этот в нашем совершенно обесцерковленном краю был связан с каким-то большим церковным праздником, скорее всего с Троицей, потому что на Пасху прорваться через болото было проблематично. С раннего утра конёвский берег украшался длинной гирляндой лодок – плыли из Кемского поселка, и даже из Андреевского. Из лодок выгружались празднично одетые семьи: женщины в летних платьях и мужчины в костюмах, некоторые даже при галстуках. Но выгрузившись, женщины в меру своей стыдливости начинали подтыкать подолы, а мужчины снимали штаны. Далее праздничная лента выползала на лежнёвку. Мужчины тащили тяжелые сумки с пирогами и напитками, женщины несли груз поделикатнее, а также перекинутые через локоток мужнины брюки. Дети постарше передвигались самостоятельно – им по колено в грязи ходить было в удовольствие. Младшие ехали на руках и шеях родителей. В разгар лета дорога несколько подсыхала, и можно было шагать почти посуху, но не теряя бдительности, о чем предупреждали вопли внезапно провалившихся в болото паломников.
А на кладбище было хорошо! Шумели вековые, а не хилые болотные сосенки. Ласковая песчаная почва, перемешанная с опавшей хвоей, говорила, что покойникам здесь лежать мягко и уютно. И права Марина Цветаева: «Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет».
Не припомню я на нашем кладбище никаких лишних прибамбасов – даже оград и скамеек. Просто кресты и кресты, иногда разбавленные краснозвездными пирамидками. Всё деревянное. Тризну справляли прямо на могиле: расстилали скатерть, расставляли снедь и рассаживались, как кому удобно. Странно, но память всё время подсовывает образ лежащих на могиле крашеных пасхальных яиц. А может быть, они и были? Ели в основном пироги: рыбники, калачи и рогушки (о рогушках расскажу как-нибудь позднее). Пили белое вино (водку) и красное (всё остальное). Ребятишки, быстро насытившиеся, сновали между могилами от компании к компании – не угостят ли чем-нибудь совсем невиданным? Но нет, в бедности были все приблизительно равны.
Обратный путь к лодкам был труднее. С одной стороны – харчей не надо было тащить, но и координация движений, необходимая для ходьбы по бревнам, несколько страдала от возлияний и обильной трапезы. Всё чаще слышались визг или матюги оступившегося бедолаги. Но и песни тоже слышались…
В июне в полную силу оживал огород. Можно было бы описать его подробнее, но соревноваться с астафьевской «Одой русскому огороду» мне не по плечу. Скажу лишь несколько слов применительно к нашим краям. Огороды в Конёве на нынешний взгляд были бедноваты. Сажали только то, что не требовало особого ухода и легко могло храниться: картошку, лук, чеснок, морковку, свеклу, репу, редьку, капусту. Парников ни у кого не было – полиэтилен еще не успели синтезировать, а работа со стеклом требовала особой сноровки и мастерства. Так что у нас был только рассадник для капусты, представляющий обыкновенную оконную раму, положенную на короб из досок. Особенностью местной технологии выращивания капусты было то, что когда кочаны начинали завязываться, бабушка кидала внутрь щепотку дуста (ДДТ), и с тех пор никакие вредители капусту не трогали, а кочаны вырастали большие, плотные, всем на заглядение.
У меня нет ни малейшего сомнения, что международный запрет на использование ДДТ был инициирован транснациональными компаниями при поддержке особо продажных ученых и группы сумасшедших, именующих себя «зелеными». Чуть ли не главным аргументом запрета было то, что ДДТ обнаружили в жирах китов и пингвинов – дескать дуст не разлагается в природе и может отравить всю планету. Однако недавно были обнаружены американские китобойные шхуны, занимавшиеся китовым промыслом задолго до изобретения ДДТ. В остатках китового жира на бортах шхуны также нашли вещества, аналогичные дусту. А еще чуть позднее в океане были обнаружены бактерии, синтезирующие ДДТ в природных условиях. Никто об этом однако не орет, ибо транснациональные компании предпочитают продавать инсектициды в сотни раз более дорогие и далеко не столь эффективные. Закон рынка.
Ягодников, в смысле ягодных посадок, никаких в Конёве не было: то ли их считали баловством, то ли они не очень приживались. Из ягод заготавливали на зиму только клюкву и бруснику. А молодым растущим организмам хотелось чего-нибудь сладенького. Сладенького и в магазине было не густо, а порой случались перебои с обыкновенным сахаром. Чай обычно пили вприкуску, то есть откусывали специальными щипчиками кусочек от твердого мелкозернистого сахара, клали его на краешек блюдца и цедили чай через него. Наш деревенский кузнец, обремененный большим семейством, даже завел обычай пить чай вприглядку, когда кусок сахара висел над столом на ниточке. Но, возможно, он делал это с юмористическими целями, ибо был большой шутник.
Ну а обычной заменой сладким лакомствам служили пареная свекла и репа. Их нарезали продолговатыми дольками и на противне помещали в русскую печь. Влага из овощей испарялась, а сахар оставался, и в результате получалось нечто вроде примитивных цукатов.
Когда же в магазин привозили конфеты «подушечки», называемые в народе «дунькина радость», радости действительно не было предела. Мне лично наибольшую гастрономическую огородную радость доставляли первые зеленые перышки лука с куском черного хлеба. Щавель тоже какое-то время утолял недостаток витаминов.
Взрослые, я имею в виду трудоспособное население, нашим воспитанием занимались мало. В основном это было дело бабушек – дедов почти ни у кого не было, всех прибрала война. Но когда требовалась мужская сила – например, отремонтировать качели-карусели, всегда находился умелец с топором и ножовкой. Случались от взрослых и совершенно неожиданные сюрпризы. Однажды ранней весной охотники убили медведицу. Медвежьего мяса, конечно, попробовала вся деревня, но у медведицы был еще и мелкий медвежонок. Его один из охотников взял себе домой, а поскольку у него было двое сыновей наших лет, то скоро мишка стал как бы общей ребячьей собственностью.
Любому ребенку нужны собственные игрушки. И медвежонку тоже соорудили деревянного бычка, обтянутого рогожей и набитого соломой. С нами Мишка тоже играл с большим удовольствием, так что я с гордостью могу говорить, что в молодости в рукопашную боролся с медведем. Одна беда – на деревенских харчах медвежонок слишком быстро рос и довольно скоро обзавелся внушительными когтями. Первым досталось соломенному бычку. Рогожа и солома вскоре пошли по ветру и остался только деревянный остов. Да и в наших играх Мишка хоть и был осторожен, но, случалось, задевал пятерней за штаны и распускал их на лоскутки. Разумеется, терпеть вольно пасущегося в деревне медведя – против этого активно все возражали. Особенно коровы. И был наш Мишка спроважен то ли в Ленинградский зоопарк, то ли даже в цирк.
Было и одно по-настоящему взрослое дело, к которому ребятишек охотно привлекали. Весной, когда вода сходила и берег немного подсыхал, наступал праздник смоления лодок. Лодки, как уже говорилось, у нас были деревянные, а дерево – такой материал, что трескается от перепада температуры и механических повреждений. Поэтому к началу гребного сезона большинство лодок нуждалось в подновлении. Их ставили кверху дном на бревна или чурбаки, и весь берег окутывался смоляным дымом костров. Над кострами на рогатинах висели ведра с варом (вар – наверное, местное название, и правильнее назвать эту субстанцию битумом или как-то иначе). Когда вар растапливался и даже начинал гореть, ведра подтаскивали ближе к лодкам, и пацанам под надзором взрослых разрешалось большими кистями размазывать пузырящуюся черную жижу по днищам. После этого весь берег становился черным и блестящим. Отчасти таковыми были и сами работники. Но зато безопасность следующей навигации была обеспечена. Хотя должен признаться, полной герметизации наших плавсредств никогда добиться не удавалось, но на этот случай под рукой всегда были ковшики или консервные банки.
Из развлечений, дарованных цивилизацией, нам было доступно кино. Не помню, как часто – наверное, раз в неделю – его крутили в доме культуры, или попросту в клубе. Клуб находился на другой стороне реки, и приходилось договариваться со взрослыми, чтобы кто-нибудь переправил нас туда и забрал обратно. В клубе наша конёвская компания, не знаю уж почему, видимо, чтобы не вступать в избыточные контакты с аборигенами, предпочитала смотреть кино с задней стороны экрана. По возможности тихо пробирались мы на сцену и поудобнее укладывались по ту сторону заплатанного во многих местах экрана. Иногда нас гоняли оттуда, но чаще нет. Поэтому многие шедевры кинематографа запомнились мне, так сказать, в зеркальном отражении. Стоило это удовольствие до 1960 года 50 копеек, а после – пятачок.
Другим «культурным» развлечением, а впрочем, кавычки можно убрать, ибо им не чурались и люди самого высокого света, были карты. Играли в основном в дурака, козла, Акулину (так звали пиковую даму) и в другие игры, названия которых я забыл. У бабушки была старенькая колода, которой она очень дорожила, так как использовала также для гадания. Но как бережно ни обращайся с картами, они засаливаются, сгибаются, трескаются, так что всякая карта имеет собственное оборотное «лицо». Обладая ясным, ничем не запятнанным разумом, я быстро запомнил колоду как с той, так и с другой ее стороны, что немало способствовало моей фортуне. Хотя, если карта упорно не шла, случалось и проигрывать.
Партнерами моими были либо родственники, когда они съезжались под родительский кров, либо бабушкины подружки, забредавшие на огонек, чтобы скоротать долгие зимние вечера – летом им было не до карт. Зато летом имелся самый азартный игрок – пастух Киря-Бантик. Киря был взрослый уже мужик, но оставался в той поре разума, чтобы только ухаживать за собой и хорошо ладить со всякой бессловесной тварью. Его нанимали пастухом всей деревней с тем, чтобы он питался и ночевал в каждом доме по очереди. Собирали ему и какую-то сумму денег. Почему его прозвали Бантиком, мне неведомо. К еде и комфорту Киря был неприхотлив – кормили его, собственно, тем, что и сами ели. Но очень он любил на досуге перекинуться в картишки. Видимо, все-таки не хватало ему человеческого общения. Развлекать пастуха выпадало чаще всего мне, как самому бездельному члену семейства. Тут я и проявлял все самые худшие стороны своей натуры, то есть безжалостно плутовал. Дело в том, что у Кири ко всему прочему на одном глазу было бельмо, что сильно облегчало почти любые манипуляции с картами.
А проигрывать Киря не любил (кто любит?!), и я зорко следил за тем, чтобы его раздражение не сменилось гневом, истерикой и тому подобным. В случае опасности я сдавал несколько партий, и мир за карточным столом, который на самом деле был кухонным, восстанавливался.
Раз уж я рассказал о пастыре, то уместно будет упомянуть и о пасомом им стаде. Коров в Конёве держали в каждом семействе, иногда и вместе с телятами. Больше держать было невыгодно: надзорные финансовые органы строго следили, чтобы кто-нибудь не разбогател сверх меры, и обкладывали таких граждан прогрессивным налогом. А одной коровы как раз хватало и на молоко, и на творог, и на сметану, и на масло. В каждом хозяйстве также было несколько овец. Рано утром хозяйки выгоняли скотину в проулок, а там она сама тянулась за околицу на призыв берестяного кириного рожка. Богатых пастбищ в окрестностях не было, но Киря как-то умудрялся накормить стадо и на всяких неудобьях.
Сено косили тоже на неудобьях, зачастую по колено в воде. Скошенную траву тут же наваливали в лодки (большие), которые сразу же превращались в подобие плавающих копен. Сушили сено, раскидывая во дворе и на берегу. Это было удобно, чтобы походя ворошить или копновать в случае дождя. Но в целом сенокос был занятием трудным и долгим, и детей на начальной стадии к нему не привлекали – только ворошить сено и складывать его в валки.
С заготовкой дров ввиду близости леспромхоза особых трудностей не было. К тому же и по реке проплывали бесхозные бревна, отбившиеся от плотов. Тут надо было не зевать: хватать багор, прыгать в лодку и буксировать добычу к берегу.
Ближе к осени начиналась заготовка грибов и ягод. Нас к этому делу тоже не допускали: слишком далеко по болоту надо было ходить, да и порядочных грибов вроде белых и подосиновиков в наших краях не росло. Всё больше волглые болотные подберезовики. Зато много было солонины – волнушек, серушек, даже груздей. Ее-то и солили целыми кадушками. За клюквой ходила главным образом бабушка с огромной корзиной-кузовом за плечами. Не представляю, как она ее таскала. Можно задать вопрос: а какую роль играла в нашем хозяйственном механизме мама, в то время самый здоровый и зрелый член нашей семьи? Нет, мама тоже помогала по хозяйству – готовила иногда, стирала и тому подобное, но главным образом она в ту пору зарабатывала деньги, то есть была частным предпринимателем. Оказывается, в эпоху пролетарской диктатуры быть трудящимся частником было даже проще, чем под игом государственного капитализма. Достаточно было купить патент на какой-нибудь род бытовой деятельности – плати налоги и живи себе спокойно. Мама шила. Стрекотание швейной машинки в нашем доме почти не умолкало, и не иссякал поток дам со свертками дефицитной мануфактуры под мышкой. Наверное, мама даже неплохо по деревенским меркам зарабатывала – шила и себе, и сестрам, и даже позволяла себе поездки в гости на Украину к тете Томе и на курорт в Сочи. Пыталась она и меня брать с собой, но, утомленный путешествиями раннего детства, я был тверд как скала в желании оставаться деревенским домоседом.
Повествование мое идет спотыкаясь, без всякого плана. Боюсь, что порой даже без смысла. Немного коснувшись «быта и нравов древних славян», сейчас захотелось написать и об их «верованиях».
Вера в Конёве была «синкретическая». Даже сейчас, когда жители России в большинстве своем считают себя православными, это в 90% случаев ограничивается двунадесятых праздников, да что в Духов день нельзя на земле работать – земля отдыхает. Ну а в те времена народ был в духовной сфере дезориентирован до такой степени, что ближе был к язычеству, чем к православию или пролетарскому интернационализму. Помню, как соседка наша тетя Тося бегала по проулку с портретом Сталина, вставленным в киот из-под иконы и истерически вопрошала: «Кого же теперь вешать-то?» (вероятно, это было как раз после XX съезда).
Слово «язычество» тоже вырвалось у меня неслучайно: в сущности, языческие верования никуда из народной жизни и не уходили. Домовой, водяной, кикимора, баенник жили здесь рядом, слегка прикрытые туманной занавеской, которую легко было и отдернуть. Поскольку край наш был речной и лесной, то особенно часто рассказывали о водяных и леших, которые так по лесу и шастали. Почти все из моих родственников встречались с лешим. Кого-то вредный старик три дня водил по болотам, когда дом-то был совсем рядом, а дядюшка Валерий в детстве видел лешего, расставившего ноги по обоим берегам реки. Словом, все в соответствии с описаниями ученых-фольклористов.
Поскольку народ у нас тонул довольно часто, то тут подозрение первым делом падало на водяных и русалок. Особенно водяных, особенно если жертвой была девка без нательного крестика. Кого-то ночью душил домовой, кому-то он же портил скотину, и т.д. и т.п. Всё это рассказывалось с такими реалистическими подробностями, что трудно было не поверить.
А еще Святки! В наших краях тогда еще сохранялся обычай ходить по домам ряжеными: в вывороченных тулупах, с волосами из пакли, с раскрашенными углем рожами. (Как я люблю эти страницы у Толстого!) И это были не какие-то плановые мероприятия, которые ждали с расслабленной улыбкой. Отнюдь. Выглядело это примерно так: ночь, зима, бревна трещат от мороза, при свете керосиновой лампы мы с бабушкой лениво перекидываемся в дурачка. Вдруг в сенях стук, дрюк, грохот. Двери распахиваются, и в клубах морозного пара в избу вваливаются какие-то чудовища – все в шерсти, с хвостами, когтями, рогами. Чудища рычат, прыгают, кривляются, щекочутся. К счастью, длится это не очень долго – бабушка утихомиривает не в меру расходившихся гостей, а появившаяся на столе бутылка и миска квашеной капусты довершают дело. Черти разоблачаются и оказываются давно знакомыми дядей Васей, дядей Петей, тетей Фросей… Дальше можно присоединиться к их веселой компании и идти дальше по деревне, но я еще слишком мал, а бабушка слишком стара для таких развлечений. Гости снова рядятся и, запрягшись в чьи-то бесхозные сани, с криком и гиканьем отправляются дальше.
Наши болотистые и непролазные края издавна считались весьма удобными для спасения души. Множество святых подвижников подвизалось здесь. Недаром же здесь возникли такие твердыни православия, как Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово, Белозерск, Горицы и другие. Но, видно, слишком обширные пространства обжили наши предки, чтобы в достаточной мере освятить их светом православной веры. Я в раннем детстве не видел окрест ни одной церкви, даже разрушенной. И где крестились и молились мои земляки, я не знаю. И отпевал ли их кто-нибудь? Первого человека в рясе я увидел уже в отрочестве, и это был для меня культурный шок: я-то в своем пионерском задоре думал, что такой пережиток как религия давно упразднен или доживает свои дни в каких-то особых резервациях.
Церквей окрест не было, однако гонения на веру достигали и наших широт: не помню я ни одной избы, где бы в красном углу висели иконы. Бабушкин иконостас я нашел на чердаке. Иконы стояли в киотах и именно в том углу, который на чердаке можно было бы назвать красным. Я их посмотрел, но не трогал. Наверное, потому что побаивался той самой смутной боязнью, которой мои земляки боялись домовых и леших. Но и при отсутствии икон молилась бабушка каждый день утром и вечером, наглядно доказывая тезис, что «церковь не в бревнах, а в ребрах». Хотя невозможность исповедоваться и причаститься, наверное, ее сильно удручала.
Впрочем, занималась она и практиками, которые официальная церковь вряд ли бы одобрила: заговаривала кровь, сводила бородавки, врачевала другие мелкие недуги. Причем не использовались ни какие-то особые травы, ни секретные притирания. Просто пошепчет что-то над рукой, и кровь перестает течь. Или пошепчет над бородавкой, повяжет бородавчатый палец шерстяной ниточкой, и скоро бородавки почему-то нет. Особенно она была сильна в искусстве перевода скотины. Большинство животных (не все) точно равно и люди, за исключением романтиков, обычно привыкают к своему месту. Корова, выпущенная в стадо, стремится вернуться в свое родное стойло, даже если продана другому хозяину или даже в другую деревню. Чтобы без проблем помочь животине освоиться в новых условиях, существовали особые люди. Например, моя бабушка. Она брала подсоленную корочку хлеба и вела (допустим, корову, потому что с коровами у нее был особый контакт) на новое место жительства, все время нашептывая скотине что-то на ушко. В новом стойле корочка скармливалась и больше проблем, как правило, не возникало. Если же животное надо было вести на убой, бабушка никогда за такую работу не бралась. Кстати, забыл сказать в своем месте: нашу корову звали Зорька. Была она белая с рыжими пятнами, и бабушка любила ее, по-моему, больше, чем своих дочек.
Раз уж зашла речь о бабушке Саше, то самое время рассказать о ней поподробнее. В раннем детстве она была для меня главным человеком – и Макаренко, и Песталоцци, и Ариной Родионовной, и верным Савельичем в одном лице. Родилась она, как я уже говорил, в Киснеме, вероятно, довольно большом селе на берегу Белого озера. В Киснеме был и свой храм Святой Троицы, и даже церковно-приходская школа, куда юную Александру и определили по достижении должных лет. Но проучилась бабушка ровно два дня – на третий она воткнула особо приставучему однокласснику в щеку перо (помните деревянные ручки со сменными стальными перышками?) и навсегда убежала из школы. Пострадавший оказался заодно поповским сыном.
Тем не менее, бабушка кое-как выучилась читать и писать, причем писать тем стилем, который безуспешно пытались освоить многие модернисты XX века – потоком сознания. Джойс, прочитав бабушкины письма (а другого литературного наследия она не оставила), удавился бы от зависти.
Не имея понятия о грамматике и орфографии, бабушка ими и не пользовалась, а писала, как слышится, следуя за пришедшей в голову мыслью, интонационные паузы оставляя сообразительности корреспондента. При этом не забывала передать приветы всем близким и дальним родственникам адресата от тех близких и родственников, которые были у нее под рукой. У меня, к сожалению, сохранилось одно единственное бабушкино послание, и я никак не решусь перечитать его: боюсь разрушить прежнее очарование.
Мама в описываемую пору была молодой привлекательной женщиной и по вечерам особенно дома не засиживалась: шить при свете керосиновой лампы было трудно, и она то и дело ходила по гостям, то в кино, то на танцы. Так что вечера, если в доме не было других обитателей – тетушки, дядюшки или квартирантов – мы проводили вдвоем с бабушкой. Летом она обычно допоздна находила дела по хозяйству, а ранними зимними сумерками вынуждена была гасить природную энергию. Кстати, не буду прибедняться – электрификация (не говоря уж о советской власти) слегка коснулась и Конёва. Если летом электричества у нас не было никогда, то зимой от леспромхоза подключали времянку, и свет в домах бывал. Но чтобы не избаловались, часа по три в сутки.
Досуги наши не отличались разнообразием. Играли в карты (но вдвоем это скучновато), порой к бабушке заходили подружки-соседки. Любимой темой разговоров у них было выяснять, кто старше. Но поскольку год рождения они, как правило, знали, но оперировать четырехзначными числами не умели, спор так и не заканчивался. В компании старушек я пил чай и нюхал табак – была у них такая слабость. Днем предаваться ей было недосуг, а вечером в кругу подружек – почему бы и нет. Занятие это, кстати, очень прочищает мозги, но в современном быту его представить трудно. Уже и курильщики подвергаются почти таким же гонениям, как евреи на заре Третьего рейха.
Иногда соседки приносили с собой прялки, и тогда, рассевшись по лавкам, они пряли, сопровождая это занятие неспешными беседами на текущие темы и воспоминаниями. Мне тоже давали прялку, и я таки да научился прясть, но это мне быстро наскучивало. Теперь, по прошествии лет, я недоумеваю: откуда они брали кудель? Льна в окрестностях не выращивали со времен упразднения колхозов. Неужто пользовались еще довоенными запасами? Словом, прясть я худо-бедно научился, а вот владеть многочисленными дедовскими инструментами – нет. Вот они, недостатки женского воспитания. Позднее в школе на уроках труда я, конечно, кое-чему научился, но лучше бы это случилось раньше.
Больше всего мне нравились вечера, когда мы с бабушкой оставались дома совсем одни. Тогда, переделав все обыденные дела и заботы – натаскав воды, сложив в печку сухие дрова из подпечка, нащипав лучины на растопку и дав корма скотине, мы забирались на печку. Умей бабушка бегло читать, я бы попросил ее почитать, а так приходилось просить рассказывать что-нибудь «из старины». И рассказы эти, наверное, подействовали на формирование моей личности больше, чем многие тома мировой классики, прочитанные позднее, потому что были согреты чувством непосредственного участника событий или Истории, если угодно. Не помню, кто из современных историков говорил, что отдал бы все сочинения Тита Ливия за записки галерного раба. Бабушка и была таким «галерным рабом».
В голове старика – сужу по себе – остается не так уж много реальных эпизодов из прошлого, особенно если у них есть какой-то определенный сюжет. В памяти мелькают скорее картинки и ощущения. А что всплывает в тот или иной момент, не в воле мемуариста. Поэтому у меня не вызывают доверия творцы воспоминаний, которые сыплют деталями и именами. Ну разве что они всю жизнь вели подробнейшие дневники. Вот и из рассказов бабушки трудно было выстроить какое-либо последовательное повествование.
Когда я был молод, изредка думал, что не худо было бы записать бабушкины воспоминания, да так и не собрался. Теперь же и у меня в голове остались их жалкие обрывки вроде того, что раньше девки не носили нижнего белья кроме рубах. Поэтому любимым занятием деревенских лоботрясов было подкараулить одинокую девку где-нибудь во ржи, задрать подол и перевязать его жгутом соломы. Поэтому девушки сбивались в стайки. Эта привычка, по-моему, сохранилась до сих пор. Зимние юбки были у них ватные, но катаясь с ледяных горок, той или иной неосторожной красавице доводилось испытать сильные ощущения от соприкосновения с поверхностью льда. Катались с горок не на санках, а на толстых и выдолбленных изнутри досках, на скользящую поверхность которых намораживался слой навоза – это сильно уменьшало коэффициент трения.
Позднее, после соответствующей идеологической обработки в школе, я всё допытывался у бабушки об ужасах крепостного права. Она мои вопросы не понимала. Во-первых, потому что по возрасту не могла его застать, а во-вторых, в наших краях его никогда и не было. «Баре-то? Баре были, особенно летом. Мы еще барчат лупили и заставляли сладости воровать», — говорила бабушка, а из контекста следовало, что были это никакие не крепостники-помещики, а просто городские дачники.
Много забавного рассказывала она про выборы. Выборы – куда? Она не помнила, а я своим детским умишком вообще не понимал, что это такое. Задним числом мне думается, что это были либо выборы в недавно созданную Государственную думу, либо в так и не состоявшееся Учредительное собрание.
В общих чертах всё было как и теперь. Приезжали пламенные ораторы, может быть, даже кандидаты в депутаты, собирали народ возле церкви и начинали сулить золотые горы и реки, полные вина. «Мужики! (дальнейший текст речи предоставляется воображению читателя, он и сейчас примерно тот же) Голосуйте за список…». Мужики молчат. «Ах, выкатить нашим любимым избирателям бочку зелена вина!» Бочку выкатывают. Мужики начинают высказывать всестороннее одобрение и всемерную поддержку. Потом, конечно, маются похмельем и ждут, когда приедут представители других партий, чтобы их опохмелить.
Сказки бабушка тоже рассказывала. Но не те, что советские писатели-гуманисты старательно адаптировали для воспитания будущих строителей коммунизма, а первозданные – народные.
В сказке, именуемой теперь «Морозко», не было никакого Морозки, а был Медведь, который красну девицу с удовольствием сожрал бы, если бы она не помогла ему по хозяйству. А когда старик с мачехой послали за приданным двух других дочек… «Смотри, старик, как наши красавицы медведю полюбились: на окнах занавесочки повешены, а на оконницах свежие пирожки лежат». Подходят, а на окошках кишочки развешаны, а на подоконнике лежат дочек титечки… Ничего себе сказочка? В пору триллер снимать.
И многое в подобном роде. Жаль, я большинство сказок, а если в деталях, то все, не запомнил. Были среди них и такие, какие я не встречал ни в каком другом изводе. А сказок всех народов мира прочитал огромное количество. В бабушкиных сказках, как и в любом фольклоре, встречались и смешные истории, но юмор их был мне по малости лет недостаточно понятен, поскольку касался в основном взаимоотношения полов. Но в основном сказки были мистические, волшебные, страшные, завязка многих начиналась в бане, где девушки собирались гадать о суженом-ряженом, или на кладбище.
………………………………………………………………………………………………
Из-за печальных жизненных обстоятельств я долго не брался за перо. Но ведь жизнь не закончилась? Show must go on? К сожалению, я потерял нить повествования. Да и какая это была нить? Так, связанные друг с другом разноцветные обрывки ниточек. И, может быть, связанные даже не в том порядке, как было изначально.
В последних строках я писал про бабушку и обязательно напишу еще. Но сейчас мне хотелось бы вернуться к святкам. В Конёве, как уже говорилось, они праздновались с языческим размахом и несомненным присутствием нечистой силы. Но были у нас места и более цивилизованные – поселки Кемский и Андреевский. В Андреевском имелся Дом культуры водников, а в Кемском – просто Дом культуры. В обычные дни там иногда (нечасто) крутили кино или устраивали танцы. Но перед Новым годом и несколько позже там проходили… настоящие балы-маскарады. Нет, это были не скучные детские мероприятия, где родители, старательно улыбаясь, подпирают стенки, наблюдая, как их чада, одетые снежинками и зайчиками, уныло веселятся по командам какой-нибудь затейницы с зычным фельдфебельским голосом. А были это настоящие взрослые балы с таинственными полумасками, вуалями и нарядами, роскошь которых ограничивалась только скудостью тогдашнего быта. Но при определенных обстоятельствах, а особенно при особом настроении и дешевая бижутерия может сверкать не хуже королевских алмазов и яхонтов. Детей на эти балы вовсе не допускали. Для них устраивали специальные утренники и представления, но о них я расскажу позже, когда речь пойдет о школе. До школы же коневские ребята никакого участия в общественной жизни поселка не принимали.
Тут уместно сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о социальном составе жителей нашего поселения вообще, а не только Конёва. В основном это были жители окрестных деревень, но во время войны сюда, как и во многие труднодоступные места северных областей, были эвакуированы многие жители осажденного Ленинграда. После войны большинство вернулось к своим пенатам, но некоторые осели в наших вологодских болотах и составили особый питомник провинциальной интеллигенции. Балы-маскарады были делом их рук.
Вообще Ленинград был тогда не только культурной столицей Северо-Западной Руси, но и столицей настоящей. Про Москву большинство народа знало только понаслышке: «в некотором царстве − в тридевятом государстве». А до Ленинграда ходили теплоходы, да и за годы совместного существования многие граждане обзавелись дружескими, а то и семейными связями и регулярно гостевали друг у друга. Впрочем, связи с Питером были старинные: мужики отправлялись туда на отхожие промыслы, а одну из бабушкиных подружек так и звали Анюта-Питерка, потому что до революции она жила в Питере в служанках.
О приближении очередного бала я узнавал задолго до объявления его даты: без участия мамы это мероприятие не обходилось. Мало кто в поселке умел превратить ветхие поношенные платьица в маскарадные наряды. В ход шли всякие рюшечки, воланчики, блестки, кружева. Я не удивлялся, обнаруживая дома вертящуюся перед зеркалом очередную испанку с неимоверной величины бумажным веером или звенящую монистами цыганку. Это были наиболее популярные наряды у дам. Впрочем, в ход шли и славянские мотивы. Для этого перетрясали кованые сундуки и на свет божий извлекались рубахи и сарафаны бабушек и прабабушек (не так давно я отдал старшей дочке ветхую льняную рубашку, которая принадлежала еще моей прабабушке). Во что одевались на балы мужчины, право, не знаю. Ведь не во фраки же и меньтики? Но, кажется, интригующие полумаски были обязательны для всех.
Одному из этих балов я обязан очередной «загогулиной» в своей судьбе. Проснувшись однажды утром после бала, я не обнаружил мамы. «Где мама?», — спросил я. «Самоходкой ушла», — сердито ответила бабушка. «Самоходкой» на коневском языке называлась: 1. самоходная баржа 2. вступление в связь с лицом противоположного пола без официальной регистрации брака и согласия родителей.
Так в мою жизнь вошел дядя Коля Огородников. Был он высок, мускулист, и задним числом мне кажется, походил на знаменитого артиста того времени Евгения Рубанского. Ко мне он относился очень хорошо. Я к нему тоже – наконец рядом со мной появился настоящий мужчина! Но бабушке он совершенно не пришелся: во-первых, она любила и очень уважала моего отца, во-вторых, дядя Коля не лишен был слабости, свойственной многим русским мужчинам, делающим тяжелую работу на свежем воздухе – он выпивал.
Словом, после череды скандалов мама с дядей Колей поселились на другом краю деревни, сняв полдома у одной старушки (не помню ее имени). Принадлежала она к самой распространенной тогда категории коневских жителей – вдовам-солдаткам. Ей после небольшой платы появление мужика в доме тоже было вполне выгодно: что-то прибить, поднять, отпилить, отнести. Не надо было просить дефицитных соседей мужского пола. Мне тоже пришлось оставить бабушку. Я, конечно, скучал по «хлопотливому ее дозору», а пуще того по ежевечерним беседам на печке. А тут и печка была не своя, не родная – на своей у меня, например, была выцарапана гвоздем русская азбука. Но за годы странствий я уже как-то научился приспосабливаться к смене жизненных обстоятельств. Тем более, что в новых условиях были и некоторые преимущества.
Например, из-за недоступности бабушкиной бани мы с дядей Колей стали ходить в Кемские общественные бани – настоящие мужские бани. Раньше меня мыли мама и бабушка. Иллюстрацией этого процесса может служить прекрасная картина А. Пластова «Весна. Русская венера», если, конечно, мысленно подремонтировать баню, а на место укутанной в платок девочки поставить меня. Ну и, естественно, никто не мылся в ясный солнечный день, а освещение было скорее рембрантовское – от фонаря «летучая мышь». Женщины меня быстренько раздевали в предбаннике, раздевались сами и начинали в четыре руки обрабатывать мочалкой и хозяйственным мылом. Затем окатывали горяченной водой, упаковывали и отправляли домой, благо до дома было метров 150. Сами уже дальше мылись в свое удовольствие.
Другое дело – общественная баня. Мне нравилась сама атмосфера этого своеобразного мужского клуба. Даже то, что порой долго приходилось искать освободившуюся шайку и место, где с ней приткнуться. После помывки, неспешной и основательной, дядя Коля покупал мне кружку вкусного клюквенного морса, а себе кое-что еще. Вот это «кое-что» и стало причиной скоротечности тогдашнего маминого союза.
У русского народа есть мудрая пословица: пьян да умен – два угодья в нем. Мне редко приходилось наблюдать русских женщин, которые руководствовались бы этой максимой в жизни. Поэтому довольно часто встречающаяся в американских фильмах сцена, когда жена спрашивает мужа: «Ты, наверное, устал, дорогой? Может, тебе что-нибудь налить?» кажется в российских реалиях более фантастичной, чем вся эпопея о Звездных войнах. Русская женщина в таких условиях тоже что-нибудь говорит, но после ее ласковых слов хочется пойти и напиться уже капитально.
Не помню, чтобы дядя Коля валялся, буянил или сквернословил. Тем не менее, через очень непродолжительное время мы вернулись под бабушкин кров и были прощены. А дядя Коля Огородников так и остался навек беззаветно влюбленным в маму. Я это знаю, потому что по окончании школы мы с моим троюродным братом и тезкой посетили родные края. Моя-то деревня уже была затоплена, а его еще существовала, и у него были там родичи. Там я и встретил дядю Колю, работавшего на катере-водомете в местной лесной запани. Хотя и прошло много лет, мы узнали друг друга и даже распили бутылочку в тесной каюте его судна. Под бутылочку он и рассказал о своих нежных чувствах.
Вернувшись в родной дом, я первым делом заявил, что с бабами больше мыться не пойду. О том, чтобы отпустить меня одного в Кемские бани, не могло быть и речи. Компромисс был найден в том, что меня стали отпускать мыться к соседям и моим ровесникам, братьям Бальцевым. Те пользовались у родителей большей автономией.
Морса здесь никто не предлагал, но зато в изобилии была свобода. Мы могли париться сколько угодно, выскакивать нагишом и нырять в сугробы, которые в те времена почему-то были глубже, мягче и пушистее. Могли просто валяться на полке и рассказывать разные страшилки. Надо только было стараться не брызнуть водой на стекло керосиновой лампы – оно сразу же лопалось, и наступала жуткая темнота, в которой прятались зловредные баенники. Кому-то здесь могут послышаться намеки на дедушку Фрейда и латентный гомосексуализм, так нет – забавы наши были совершенно невинные. Мы же не в частной британской школе сидели, а в обыкновенной русской бане.
Долгие годы я был страстным и преданным любителем русской бани, но когда в новейшие времена она стала не столь местом помывки, сколь элементом престижа, а простое предложение попариться стало чем-то вроде приглашения на светский раут, а то и на заседание масонской ложи, я как-то разлюбил это занятие, и молодецкому похаживанию веником стал предпочитать мирное лежание в ванне с хорошей книжкой в руках. Да и то сказать, раньше у меня и ванны-то никакой не было.
Ну что ж, пришла пора поговорить о книгах. Ввиду невеликого числа интеллектуальных развлечений многие мои приятели становились книгочеями. Еще до школы мы прочитали разрозненные тонкие брошюрки из серии «Мои первые книжки»: Носова, Бианки и других популярных детских авторов. Но что же дальше? Никаких домашних библиотек у нас в избах не было. Встречались отдельные разрозненные томики самого неожиданного содержания. Я, например, нашел на чердаке «Мистерию Буфф» В. В. Маяковского, и мне неожиданно понравилось. До сих пор помню внешний вид этой солидной книги, видимо, из собрания сочинений. Отыскал брошюрку В.И.Ленина «Что делать». Я уже знал, что раз Ленин, то революция. А революция и война были для пацанов излюбленными темами. Прочитал и ничего не понял. Вернее, понял, что Владимир Ильич кого-то нудно и злобно ругает, но кого и за что? Попалась мне в руки популярная книжка про устройство реактивных двигателей. Многое не понял, но осилил. У соседей обнаружился роскошный том «Рамаяны» — была тогда шикарная подарочная серия с эпосами народов мира. Тоже осилил, хотя обилие необычных и сложных имен затрудняло чтение… И прочее в подобном роде. Перечисляю, чтобы дать представление о том, с каким экзотическим интеллектуальным багажом я подошел к первому классу. Писать, конечно, не умел, то есть умел, но печатными буквами. Да признаться, и не нуждался в этом умении.
Итак, школа. Сталин к этому времени умер и даже был разоблачен верными соратниками. Умереть-то он умер, но дело его в тех или иных аспектах было вполне живо. Например, была у Иосифа Виссарионовича мысль превратить советскую школу в нечто вроде дореволюционной гимназии. Точные науки, которым не было надобности колебаться вместе с линией партии, мы изучали по учебникам, написанным еще до революции: помянем добрым словом светлые имена Киселева и Перышкина! С гуманитарными науками, однако, не задалось. Как я уже, кажется, писал, учителей древних языков днем с огнем было не отыскать, за русскую литературу, слава богу, отвечали классики, живые иностранные языки находились под подозрением и задача учителей сводилась к тому, чтобы учить, но по возможности ничему не выучить: а вдруг кому-то вздумается иностранную прессу читать или общаться со шпионами. В биологии после знаменитой сессии ВАСХНИЛ тоже было ничего не ясно: то ли учить выдумкам академика Лысенко, то ли поверить опытам монаха Менделя. Но это я уже очень далеко забежал, эти вопросы больше касались старшеклассников.
Касательно остальных школьников реформа проводилась старым испытанным на Руси методом: изменить какие-нибудь внешние атрибуты или названия (полиция – милиция – полиция; ВЧК – МГБ – КГБ – ФСБ и т.п.). В данном случае решено было ввести школьную форму, точь-в-точь копирующую форму гимназистов: длинные серые брюки, такая же гимнастерка с ремнем и фуражка. На ременной пряжке и кокарде красовался венок. Кажется, дубовый. Или лавровый? Не помню точно.
У меня есть фотография, где я стою весь такой при параде. Правда, для солидности пришлось меня поставить на стул. Кстати, затея с формой не удалась: изначально шилась она из добротной шерсти, а следовательно, была дорога. Дети же растут быстро, и в деревенских условиях такие расходы мало кому были подъемны. Так что уже на следующий год все школьники были одеты кто во что горазд. Приятель же мой, выросший в большом городе рассказывал, что там он ходил в гимназистах года четыре.
Итак, мама собрала меня в школу: подогнала форму, купила дерматиновый портфель, пенал, учебники, тетради, прописи и… уехала на курорт. Нас же с бабушкой ждала впереди небольшая закавыка – дело в том, что в школу тогда брали с семи лет и правило это довольно строго соблюдалось. Мне же до семи не хватало двух месяцев. Но мама, видимо, посчитала эту проблему несущественной. На то, что бабушка будет ходить со мной и кого-то уговаривать, надеяться не приходилось. Дело в том, что она испытывала отвращение и страх перед любыми официальными структурами и добровольно общаться с ними не стала бы ни в коем случае. Несчастное это свойство передалось по наследству и мне, и только теперь на старости лет я могу без трепета войти в начальственный кабинет.
Словом, оказался я в положении толстовского Филиппка. Первого сентября бабушка перевезла меня на другой берег, перекрестила, и пошел я в люди. Ребенок я был, мягко говоря, не социализированный: никогда не ходил в детский сад и с большими группами ровесников дел не имел. Страшно было, но и оставаться в деревне не хотелось – все мои приятели уже учились. Значит, поплелся я туда, куда шли все ребята моего калибра, правда, в сопровождении пап и мам.
Кемская начальная школа представляла собой длинный барак, обшитый поседевшими от времени досками. Во дворе ее клубились группы малышни. К одной из них, близких мне по росту, я и прибился. А может быть, были и какие-то таблички, деталей я не помню. Цветов тоже не помню. Может быть, их и не было. У нас в Конёве цветоводством точно никто не занимался и даже небольших палисадников не держал. Думается, это забава более сытых времен.
После непродолжительной официальной части все стали разбредаться по классам. Пошел и я. Ну а в классе – это действительно оказался первый класс А – обнаружилась моя непредусмотренная особь, и со мной начали разбираться. Могли отправить и восвояси, но тут на адрес школы принесли телеграмму от папы с поздравлениями с началом учебы. Тут уже сердца учителей совсем дрогнули, и я был внесен в списки того самого класса, который выбрал.
Первую учительницу мою звали Елизавета Ивановна. Сейчас я бы сказал, что это была женщина средних лет, а тогда она казалась нам пожилой. В меру строгая, в меру добрая, словом, нормальная учительница для первоклашек.
Никакой столовой в школе не было, но поскольку у деревенских ребят и дома не существовало никакого распорядка дня – поесть часом раньше или часом позже – не составляло никакой проблемы, то и неудобств никто не испытывал. Спортзала в школе тоже не было, равно как и не существовало понятия о спортивной форме, а уроки физкультуры были. Бегали, прыгали, наклонялись и приседали мы в длинном школьном коридоре, сняв предварительно сапоги и ботинки. По обеим сторонам коридора тянулись классы, так что лишний шум был ни к чему. Зимой можно было заниматься физкультурой и в валенках – эта обувь бесшумная, да и холодновато в коридоре бывало.
После уроков я шел на берег Кемы напротив родного дома и изо всех сил вопил: «Пе-ре-ве-зи-те!» Почему-то я стеснялся просто кричать просто: «Бабуля, перевези!», хотя перевозила меня как раз обычно бабушка, почти никогда не отлучавшаяся от хозяйства. Но это происходило, естественно, только весной и осенью, а зимой мы ходили в школу по льду. Ранней осенью, когда лед только становился, и поздней весной перед началом ледохода у нас, конёвских, случались незапланированные каникулы, хотя мы и старались прогуливать как можно реже. Ну и, естественно, время от времени проваливались под лед, поэтому в эти критические периоды старались ходить в школу компанией. В результате регулярной практики выработался даже оптимальный алгоритм спасения утопающих. Задачей утопающего было как можно дальше отбросить портфель, а после стараться, чтобы тебя течением не утащило под лед. Спасатель скидывал пальтишко, ложился плашмя и кидал один рукав попавшему в беду товарищу, а за другой подтягивал его на безопасное место. За время моей учебы всем нам довелось побывать в той или иной роли. Никто не погиб, но и медалями за спасение утопающих никого не наградили, хотя об аналогичных случаях мы читали в газете «Пионерская правда».
Зимние виды спорта у нас в деревне были развиты слабо. Лыж, по-моему, вообще ни у кого не имелось, да и толк от них был бы невелик – такими глубокими и непролазными были тогдашние сугробы, что проложить лыжню в них и кое-как поддерживать ее сил у ребят не было.
А вот на коньках мы катались, правда лишь в тот короткий период, когда лед еще не завалило снегом и был он гладок и прозрачен. Коньки были двух типов: у большинства «снегурки» с лихо задранными носами, у некоторых «дудыши», слегка напоминавшие современные коньки. И те, и другие крепились к валенкам системой ремешков и палочек.
Однажды мне довелось устроить настоящее ледовое шоу для жителей как правобережья, так и левобережья Кемы. Не знаю уж, почему я вышел на лед один, без компании. Наверное, друзья мои были поумнее. Но уж очень хорош был лед! И как он сиял в лучах низкого зимнего солнца! Сначала я с удовольствием погонял вдоль берега, забираясь всё дальше и дальше, пока с удивлением не заметил, что меня вынесло уже на самую середину реки. Дело было в том, что лед был не только гладок и блестящ, но еще и гибок, и даже под моим комариным весом прогибался в сторону стремнины, образуя нечто вроде тарелки. Я понял, что пора выбираться, и рванул к берегу. Но не тут-то было – коньки не очень приспособлены, чтобы ехать в гору. Несмотря на все усилия, меня то и дело относило назад. Где-то вдалеке лед с пушечным грохотом стал трескаться, чем привлек внимание изрядного количества зрителей. Все кричали, давали советы, но ничем помочь не могли: на лодке не подъедешь, а взрослого человека лед не выдержит. Я же всё кружил и кружил в центре неглубокой тарелки, стараясь добраться до бортика. Почему-то я понимал, что останавливаться мне нельзя – провалюсь. Пробовал ездить и вдоль реки в надежде, что где-нибудь лед будет крепче и ровнее. Увы.
Пребывая в непрерывном движении, я мало-помалу перестал паниковать, и осознал, что лед не только прогибается подо мной, но где-то и подымается, то есть идет волнами. И вот, наконец, ощутив, что я нахожусь на гребне «волны», я собрал оставшиеся силы и снова рванулся к родному берегу. И попал в объятия благодарных зрителей, которые доставили меня домой с соответствующими комментариями моему мастерству. Мамы и бабушки на берегу почему-то не было. Включать воображение они не стали, поэтому отнеслись к моему подвигу довольно спокойно – никаких репрессий я не помню. А впрочем, очень уж я был избалован толерантностью моих дам.
Труднее всего в школе мне давалось правописание. Глядя на мой теперешний почерк, можно подумать, что я им никогда и не занимался. Нет, я старательно рисовал палочки, кружочки, крючочки и завитушки, причем всё это делал перьевой ручкой, макая ее в чернильницу-непроливайку, которая на самом деле при определенных усилиях проливалась очень легко. В сущности, чистописание – единственный предмет, который мама у меня проверяла и даже заставляла переделывать. Таблица умножения, стихи, грамматические правила запоминались без всяких усилий.
Кстати, вологодский диалект я считаю наиболее приспособленным для обучения орфографии – у нас ведь как писалось, так и говорилось, и наоборот. Например: кОрОвА, пАрОхОд, МОсквА…
Очень мне нравились уроки рисования. Никакого специального учителя рисования в школе не было, и занималась с нами всё та же Елизавета Ивановна, то есть сидела за своим столом и не мешала нашему свободному самовыражению. Иногда она водила нас в среднюю школу на выставки, устраиваемые старшеклассниками. Как я восхищался их работами! И как завидовал! Вдохновленный этой белой завистью, я нарисовал цветными карандашами портрет В. И. Ленина, и этот шедевр был единственной моей работой, привлекшей всеобщее внимание. До сих пор помню священный трепет, с каким я рисовал белые горошинки на галстуке вождя. Но как всякое художественное произведение, опередившее свое время, мой потрет не нашел понимания у более консервативных зрителей. На переменке Елизавета Ивановна отвела меня в сторону и сперва похвалила, а после попросила воздержаться от изображения любых вождей, пока не получу специальное образование. Забегая на 20 лет вперед, скажу, что не послушался мудрого совета своей первой учительницы и наступил на любимые грабли еще раз.
Дело было в армии. Я тогда защищал воздушные рубежи Родины в составе одного из дивизионов Гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2 степени Речицко-Бранденбургской бригады. В ту пору в международной обстановке после подписания Хельсинских соглашений царило относительное спокойствие, и боеготовность армии оценивалась главным образом успехами в политической подготовке. В распорядке дня, регулярно обновлявшемся, правда, значились огневая и физическая подготовка, занятия по специальности, обучение приемам рукопашного боя, но реально всё это ограничивалось утренней зарядкой, бесконечными хозяйственными работами и, главное, политзанятиями. Чтобы достичь в последнем деле еще больших высот, командование бригады решило обновить интерьеры ленинских комнат во всех дивизионах. Делать это предполагалось малыми силами, то есть с помощью наличных солдатиков. В нашем дивизионе одним из немногих умельцев, мобилизованных на оформительские работы, был я. До той поры я никаким оформлением интерьеров не занимался, но резонно рассудил, что это занятие мне нравится больше, чем драить полы и чистить кастрюли с подгоревшей кашей. Кое-какие краски и кисти у меня были, и я довольно быстро изобразил расхожие сюжеты на тему противовоздушной обороны. Оставался лишь «красный угол», где висел иконостас – Политбюро ЦК КПСС – стандартный плакат политиздата. Смотрелось это бедновато, и я решил добавить группе старичков портрет вождя мировой революции и пролетария, сжимающего в руках красное знамя. А надо сказать, что за несколько месяцев до описываемых событий я посетил в Эрмитаже выставку прогрессивного итальянского художника Ренато Гутуззо. Прогрессивный-то он был прогрессивный, но некоторые политические сюжеты трактовал весьма своеобразно. Например, на огромном полотне «Похороны Пальмиро Тольятти» гроб с телом бывшего секретаря итальянской Коммунистической партии тащили на погост штук шесть лениных, несколько сталиных, мао цзедунов, фиделей кастро, че гевар и других менее опознаваемых личностей.
У меня Ленин был один, но я решил воплотить в его чертах неимоверную волю и решимость к борьбе за дело рабочего класса. Плюс сверхчеловеческой высоты лоб, служивший зримым признаком ленинской гениальности. Без ложной скромности скажу: замысел мой удался – вряд ли кому-либо захотелось бы встретиться с этим персонажем в каком-нибудь укромном месте. Пролетарий же, являвший собой олицетворение силы организованных рабочих масс, имел кулаки, в два раза превышавшие в размере голову. К счастью для окружающих они были заняты – сжимали дубинкообразное древко флага.
Естественно, члены брежневского политбюро, составлявшие центральную часть этого триптиха, смотрелись в таком соседстве бледновато – так, группка пенсионеров-доминошников. Естественно, так же, что после визита приемной комиссии из политотдела бригады именно они остались висеть на стене, а Ленин и пролетарий были ликвидированы.
С той поры если я и брался рисовать вождей, то только в виде карикатур. Любимый персонаж был Б. Н. Ельцин. Мне иногда даже за это платили. Отсюда вывод: порою вождей даже выгоднее ненавидеть, чем любить.
Пора, однако, вернуться на тропу линейного повествования – наиболее логичную для жанра мемуаров. То есть вернуться в начальную школу поселка Кемский. Но сделать это непросто: школьные годы чудесные слились в памяти в один бесконечный день, начинавшийся проверкой чистоты рук и подворотничков и заканчивавшийся приготовлением домашних заданий при свете керосиновой лампы. Попробую все-таки припомнить какие-нибудь яркие вехи среди однообразных будней.
Однажды, досыта нагулявшись и до костей промокнув, мы отогревались на печке у кого-то из нашей компании. Вдруг из хриплой тарелки репродуктора раздался загробный голос Левитана, сообщивший об очередном достижении советских ученых: под мудрым руководством коммунистической партии на околоземную орбиту выведен первый искусственный спутник Земли. Что это такое, мы не совсем понимали, но, судя по торжественной интонации диктора, дело было стоящее. Так прямо на печи мы въехали в космическую эру. Наутро в школе нам объяснили, что такое искусственный спутник, хотя как он там наверху держится, было непонятно – до физики и законов Ньютона мы пока не доросли.
Вместе со всем советским народом мы радовались и второму спутнику, и третьему. Завидовали собачкам Белке и Стрелке, а уж что творилось после полета Гагарина, и словами не описать. Радовались мы и всякой новой гидроэлектростанции, заводу, нефтепромыслу, горнометаллургическому комбинату… Словом, поводов для радости было много, хотя керосиновая лампа по-прежнему была непременным атрибутом каждой избы. Не знаю, так ли велика была бы наша радость, если бы мы знали, что в далекой перспективе все эти плотины, мартены и месторождения послужат лишь обогащению нескольких десятков олигархов.
Итак, времена стояли оптимистические, во всяком случае, для детей. Взрослые, я полагаю, были умнее, но и для них мирная жизнь была куда симпатичнее не так уж давно закончившейся войны. Но мы не только радовались, мы и боролись: против убийства Патриса Лумумбы, за освобождение Манолиса Глезоса и в целом за мир во всем мире.
Где-то во втором-третьем классе у нас появилась общественная организация – Звездочка. Видимо, на идеологическим олимпе спохватились: как так?! Вся страна охвачена щупальцами тотального контроля, и только самые маленькие растут сами по себе, беззащитные перед любыми идеологическими инфекциями. Так появились красные звездочки с портретом симпатичного кудрявого Ильича. «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной». Очень демократичный был товарищ.
В нашу глухомань фабричные алюминиевые звездочки попали в очень ограниченном количестве. Те, кому они достались, ходили очень гордые. Всем прочим было рекомендовано вырезать звездочки из картона, обтянуть их красной материей и пришить на груди. Кстати, шить нас учили на уроках труда, в частности штопать носки, в чем я даже преуспел. Имелась в Конёве и ледяная горка. Она естественным путем образовалась там, где трелёвочные трактора делали поворот и сгребали бревнами снег на сторону. Там же ездили и дровни, так что получалась довольно длинная, но не очень крутая наледь. Мы катались с этой горки на салазках – поместительных деревянных санках, имевшихся, как и лодки, в любом доме, и интенсивно использовавшихся в хозяйстве: привезти дров, воды, доставить белье к проруби и обратно. Да, полоскали белье прямо в ледяной воде, и на морозе оно становилось колом, так что, чтобы повесить, приходилось разбивать его вальком. Но постельное белье и полотенца были тогда в основном домоткаными, холщовыми, и выдерживали такую процедуру в течение многих лет. Проруби, достаточно обширные для полоскания, ночами замерзали, и их заметало снегом, так что почти каждый день приходилось долбить их пешней и рубить топором. Из-за отсутствия какого-либо уличного освещения случалось, что заблудившийся на реке путник проваливался в чью-либо прорубь, хотя, как правило, их огораживали елочками. Но такое купание трагически, как правило, не заканчивалось: проруби располагались не в таких уж глубоких местах.
В Конёве лошадей, по-моему, никто не держал, но, вероятно, где-то в других местах нашего поселка имелись конюшни, потому что с наступлением зимы реки покрывались хорошо наезженными санными дорогами. Да и для функционирования поселковой инфраструктуры гужевой транспорт был необходим. Сани встречались в основном двух типов: первые – легкие, двухместные со спинкой, иногда расписанной, и войлочной полостью. Эти в основном развозили руководящих работников по местам, где их руководство остро требовалось – эдакие деревенские ЗИМы. Вторые – дровни или розвальни, для народа попроще, а также для перевозки грузов.
В школе кроме трудовых однообразных будней случались и праздники, которые я очень не любил, так как обладал хорошей памятью и, наверное, довольно звонким голоском (куда что девалось?). Поэтому меня непременно загоняли на сцену – праздники обыкновенно проходили в клубе – где я должен был декламировать приличествующие случаю стишки. Брррр! Не было для меня хуже муки, чем взгляды сотен глаз. Этот комплекс я не изжил и на старости лет.
Впрочем, и в праздниках, если они не задевали лично меня, были свои прекрасные моменты. Помню, как приезжал к нам в поселок кукольный театр. Может быть, он приезжал и несколько раз, но именно от первого его посещения осталось чувство Настоящего Волшебства. Такое же чувство было у меня, когда я впервые увидел бенгальский огонь или попробовал мороженое. Боюсь, что современным детям, вскормленным гаджетами и выросшим в окружении роскошных фейерверков по любому поводу, ничего подобного не испытать.
Но, конечно, главное, что дала мне школа – это даже не знания, а возможность читать. То есть, конечно, разные случайные книжки я мог читать и раньше, но, став учеником, я узнал, что можно еще и выбирать литературу для чтения. Словом, я познакомился с библиотекой. Стройные ряды книжных полок меня просто завораживали. Я и не подозревал, что человечество уже столько успело написать. Конечно, библиотека начальной школы была совсем невелика. Может быть, и не ряды полок, а всего лишь несколько шкафов, а полки – это аберрация памяти, но всё необходимое для начального развития умов там было: сказки народов СССР и мира, Свифт, Дефо, Носов, Дюма, Жюль Верн, Майн Рид и прочие. Ну и, конечно, литература советских авторов, в основном о пионерах-героях, но и про войну, революцию, да и просто про жизнь. Плюс наша русская классика. Классика, правда, не пользовалась у нас большим успехом из-за кажущейся сложности языка. Если иностранным авторам мы легко прощали кучу незнакомых слов – на то они и иностранцы, то отечественные «ланиты», «взоры», «урядники», «околоточные» и прочие приметы незнакомого быта тормозили процесс чтения. Странно, но быт индейцев или ковбоев Майн Рида казался более понятным, чем обыденная жизнь среднерусской дворянской усадьбы или деревни. А и то сказать: не очень-то умели наши классики писать занимательно. Или не стремились к этому. Или другая гипотеза: литература «легкого жанра» существовала до революции, но была сметена могучим ураганом, так как творцы нового мира стремились дать подрастающему поколению самое лучшее или хотя бы идеологически выдержанное. Из писателей советского времени хорошо шли разве что Гайдар, Кассиль, ранний Катаев и, как ни странно, Ильф и Петров. «12 стульев» и «Золотого теленка» мне дала почитать приехавшая в нашу глушь по распределению молодая учительница из Ленинграда. Одну зиму она снимала у бабушки комнату, но с наступлением половодья вынуждена была за неимением собственной лодки снять жилье поближе к школе. Не знаю, что уж я понимал в похождениях великого комбинатора (подозреваю, что и представления не имел, кто такой лейтенант Шмидт), но мне было очень смешно.
Позднее я расширил круг чтения за счет довольно большой поселковой библиотеки, а еще чуть позднее кто-то из нашей компании проведал, что и на Андреевской пристани есть еще одна библиотека. Добираться туда было затруднительно, но зато там обнаружилось собрание сочинений Александра Беляева, а написал он гораздо больше, чем всем известные «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля». Беляев на некоторое время стал нашим кумиром. Я не помню, чтобы при записи в библиотеку требовались какие-либо формальности и думаю, что это правильно: при доперестроечных тиражах потеря пары-тройки книг не наносила такого уж ущерба, а польза от того, что народ читал, была огромной. Да и потери книг были тогда случайными. Мода на личные библиотеки и воровство книг еще не дошла до провинции.
Прошлым летом (2017 года) мы с женой путешествовали по Беломорско-Балтийскому каналу и как раз проплывали над местом, где стоял поселок Кемский. Я для этого случая даже вооружился подзорной трубой. Раньше здесь, несмотря на бездорожье, кипела жизнь: шли самоходные баржи, а буксиры тянули барки несамоходные, плыли гонки, сновали работяги-катера, пассажирские теплоходы совершали регулярные рейсы, а иногда проплывали и доки с подводными лодками из работящего города Сормово. Ныне же только редкие круизные лайнеры. Даже просто рыбацких лодок не видать – одни заросли камыша до горизонта, среди которых торчат унылые цапли да отдельные черные корявые деревья. И ради этого затевалось «великое переселение народов»? Другие части Беломорско-Балтийской системы показались мне тоже довольно безжизненными, если не считать орды кочующих туристов. Туризм, конечно, дело неплохое, но временами кажется, что он заменил собой производственную деятельность, и отдых стал для многих той самой национальной идеей, о которой так много говорят сегодняшние «большевики».
Опять я от книжек скатился в какую-то, прости Господи, публицистику. А всего-то хотел сказать, что на пустошах, в которые превратилась Русь, когда-то жили люди. В том числе и духовной жизнью. Книжки, во всяком случае, читали.
Я читал много и беспорядочно. Наряду с книжками, которые уже перечислены, имелся и очевидный список, который легко может продолжить всякий. Кроме того, я читал множество всякой чепухи, совершенно не задержавшейся в голове, но, наверное, оказавшей на эту голову какое-то свое влияние. К сожалению, никто не руководил мною в выборе литературы. Да и некому было руководить: долгие годы в моем окружении не имелось ни одного человека с высшим образованием, кроме учителей, разумеется. Про одну безымянную учительницу, подкинувшую мне Ильфа и Петрова, я упоминал, но это был исключительный случай. Впрочем, вру: однажды приехавшая погостить тетя Тамара – исключительная ханжа – увидела у меня в руках роман про военных летчиц, а там кто-то кого-то поцеловал. Обычно я и сам такие сцены, также как и описания природы, пропускал, но тут тетушка попыталась отнять у меня «эту порнографию». Я взбунтовался. И победил. Вот и всё.
Выше я написал «к сожалению», но несколько изменив точку зрения, можно бы написать и «к счастью». «Человек есть то, что он ест». Это о теле. Но то же самое можно сказать и о душе. Хорошо, что мы формируемся не по шаблону, пусть даже и самой высокой пробы. Порой такая ерунда западает в память на долгие годы и такие пустяки заставляют сердце трепетать! Жаль только, что такой ерунды и пустяков было в моей интеллектуальной пище очень уж много. «Когда б вы знали, из какого сора»…
Одновременно со страстью к чтению во мне развилась и страсть к лицедейству. Нет, я по-прежнему с содроганием и отвращением декламировал стишки на школьных мероприятиях, да и просто выйти к доске требовало от меня больших волевых усилий. Мое лицедейство было не для других, а для себя: мне требовалось хоть каким-то боком соприкасаться с той реальностью, в которой жили герои лежащих передо мной книг. Например, если в данной момент они ели каплунов, запивая их бургундским, я должен был хотя бы жевать кусок хлеба с киселем, тем паче, что ни о каплунах, ни о бургундском я не имел ни малейшего понятия. Мало помалу у меня образовался и специальный гардероб для чтения, куда входили: голубой мушкетерский плащ с крестом из фольги (позднее я узнал, что это должен быть не крест, а королевская лилия), черкеска с газырями из карандашей, обтянутых всё той же фольгой, папаха с красной лентой на случай гражданской войны, шляпа с пером, летчицкий шлем и множество маминых и бабушкиных платков, в которые можно было драпироваться, представляя что угодно. Ну и прочие мелкие атрибуты вроде ремней, патронташа и тому подобного. Апофеозом этой коллекции был водолазный костюм: мешок с рукавами и штанинами, затягивающийся на шее. К нему прилагался круглый шлем из папье-маше. Шила всё это, конечно, мама. Будучи долгое время единственным продолжателем рода, я мог рассчитывать на благодарное баловство со стороны взрослых. Имелся и соответствующий арсенал: мушкеты, мечи, сабли, ятаганы, кинжалы. Их я, как умел, вырезал сам.
Школьная жизнь текла уныло и однообразно и запомнилась разве что первой и последней полученной двойкой. Полученной вообще-то ни за что – где-то в третьем или четвертом классе у нас появились новые учебники по истории, отражающие очередной изгиб в линии партии. Было их всего несколько штук и достались они немногим счастливцам. Я их в глаза не видел и на заданную тему ничего сказать не мог. Как я ревел!
А в остальном учеба шла нормально, и никаких проблем я не испытывал. Интересовала ли нас политика, то есть жизнь страны в широком смысле слова? Да пожалуй что не очень. Газет кругом почти никто не выписывал, приемник дяди Валерия работал лишь изредка, так что визуальные сведения из внешнего мира мы получали главным образом в новостных киножурналах, которые крутили перед началом художественного фильма. Да еще в некоторых домах до сих пор работали репродукторы-тарелки. Оттуда мы узнавали о героической борьбе народов Африки за независимость, тяжелой жизни американских негров («Хижина дяди Тома» уже была прочитана).
Не осталось без внимания и уничтожение американского самолета-разведчика У-2, нагло пересекшего границы СССР. Удивляло немного то, что сбили его над Уралом, а о границах родины мы уже имели некоторое представление.
Домашняя жизнь текла размеренно и однообразно, оживляясь только в пору сбора урожая. Тут находилась работа на всех: надо было копать и перебирать картошку, рубить капусту, сушить лук, солить грибы, запаривать кадушки для хранения разносолов – стеклянные банки были тогда редкостью. Делалось это так – сперва кадушки скоблили изнутри ножиком, потом клали туда ветки можжевельника, заливали водой и кидали раскаленные на костре булыжники.
Раз уж вспомнились булыжники, грех будет и не рассказать о технологии мытья полов, в которой они тоже участвовали. Я уже говорил, что берега Кемы были глинистые и илистые. Добыть чистого песка было негде. А полы в Конёве были некрашеные, и из моющих средств имелось разве что хозяйственное мыло, и то в дефиците. Вот и приходилось полы не столь мыть, сколь шкурить.
Булыжники, тоже довольно редкие, несколько раз служившие при распаривании кадушек, после нескольких таких водных процедур разваливались в дресву – мелкие гранитные гранулы. Дресвой полы и драили, а потом сметали ее для дальнейшего использования и проходились по окультуренной поверхности щелоком, то есть горячею водой с мылом. После каждой такой помывки дом благоухал запахом свежего дерева, но полы, вероятно, истончались. Впрочем, они были не из досок, а из плотно подогнанных отесанных бревен.
Меж тем час никем не желанного, но неизбежного потопа приближался. Большая часть населения Кемского поселка переселялась в поселок Новокемский, строившийся где-то километрах в 20. Нам этот путь был заказан, так как нашей слабосильной команде новое хозяйство было бы не поднять. То есть мы и подобные нам бедолаги должны были самостоятельно расселяться по лику Земли: по родным, по знакомым, по стройкам коммунизма или Бог весть куда. Правда, за порушенные избы полагалась на первое обзаведение какая-то компенсация от государства, но государство наше никогда не было особо щедрым по отношению к своим гражданам.
В ту же пору на наше семейство обрушилось и другое несчастье – была принята новая программа КПСС – программа построения коммунизма к 1980 году. Казалось бы, где КПСС, а где мы? Но тем не менее эта программа больно ударила по маме. Коммунизмом еще и не пахло, а борьба с пережитками капитализма уже началась. Одним из этих пережитков стало надомничество, то есть то, чем мы и жили. Патент на индивидуальную трудовую деятельность стало получить почти невозможно, а особенно в нашем подвешенном состоянии. Мама автоматически становилась тунеядкой, равно как в то же самое время и поэт Иосиф Бродский. То есть ей предстояло искать не только будущее место обитания, но и общеполезную работу. Бабушка тоже становилась тунеядкой, но в виду возраста и того, что в колхозе-то она когда-то состояла, ей была назначена копеечная пенсия.
Прочие бабушкины дети уже разбрелись по стране, осели и обзавелись семьями. Тетя Тамара и тетя Аня обосновались в Запорожье. Тетя Аня даже успела побывать гражданкой вольной Украины. Дядя Валерий, кажется, еще жил тогда в Карелии, а может быть, уже перебрался в Череповец. Тетя Лиля по окончании финансового техникума была распределена бухгалтером в деревню Устрека – центральную усадьбу колхоза имени Урицкого в Новгородской области. Туда мама первым делом и поехала искать счастья.
Мы с бабушкой остались одни одинешеньки. Не на пепелище пока, но вроде того. Корову Зорьку куда-то увели, прочую скотину извели, дел по хозяйству стало меньше, но зато появилось больше свободного времени, чтобы поплакать, чем бабушка и занималась.
Я же лазил по всем закоулкам дома и перебирал знакомую рухлядь, словно пытаясь хотя бы в голове захватить ее в новую жизнь. Горшки, чугунки, безмены, крынки, ухваты, кочерги, бочки, ушаты, дедовские инструменты, самовары, корзины, ветхие рыболовные сети и старые половики, кузова, ступы, даже иконы, которых я как всякий нормальный атеист побаивался – как же я буду без них? А ткацкий стан, который зимой ставили в пустой половине дома? А любимая родная печка, в которой бабушка пекла такие вкусные рогушки (рогущки – тонкие ржаные сочни, защипанные по краям небольшими рожками и наполненные начинкой: картофельным пюре или кашей; сверху кладется сметана, а после готовности – масло).
Встречались среди этого скарба и вещи непонятного мне назначения. Например, полированный деревянный ящик с воронкой и ручкой наверху. Бабушка объясняла, что это кофемолка. Оказывается, на Вологодчине деревни делились на те, что употребляли по утрам чай, и те, что предпочитали по утрам кофе. Кофемолка была частью бабушкиного приданого, но поскольку замуж она вышла за чаевника, то прибор этот так и остался без употребления. К тому же, после революции никакими колониальными товарами в наших краях и не пахло. Вот и осталась кофемолка без употребления.
Наконец, вернулась мама. Бездетная пока тетя Лиля решилась приютить нас в Устреке, где колхоз предоставил им с мужем ветхий, но еще годный для жилья дом. Мама даже нашла себе работу – воспитателем в местном детском доме. Бабушка должна была ехать к дяде Валерию – нянчить недавно родившуюся мою кузину Лену. С той поры и до самой смерти кочевала она по детям, нянчась со скудной порослью своих внуков, первым из коих был я. И поразъезжались мы, не дожидаясь полной и окончательной зачистки родной деревни, а значит, и избежав тех душераздирающих сцен, которые описаны Валентином Распутиным в замечательном романе «Прощание с Матерой».
А как же скопленное десятилетиями барахло? Я думаю, его, как и у Распутина, пожрал огонь. Ну, может быть , кое-что перепало и мародерам, но разве много утащишь на себе? Лучше огонь. Во всяком случае мне легче представить головешки, чем плавающие вокруг печной трубы кадушки и киоты с иконами…